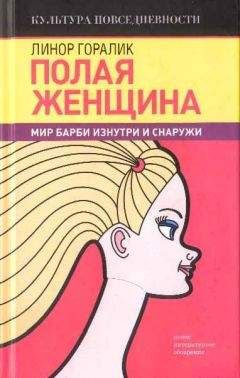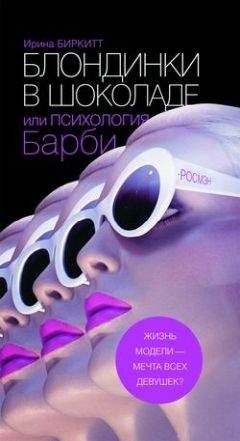Барби. Часть 1 (СИ) - Соловьев Константин Анатольевич
Стоило ей снять крышку, как гомункул забеспокоился. Сухие ручки беспомощно дернулись, будто собирались помешать ей — но помешать они не смогли бы даже трехлетнему ребенку. В лучшем случае — не очень крупной мухе.
— Какого хера? Зачем тебе вздумалось…
— А теперь слушай меня, эмбрион дохлой коровы, — внушительно и негромко произнесла Барбаросса, демонстрируя ему через стекло купленную в бакалейной лавке склянку, — Ты ведь знаешь, что здесь, так? Концентрированный уксус. Я собираюсь вылить эту склянку в твой блядский аквариум и посмотреть, что из этого выйдет. Ты прав, я не была самой прилежной ведьмой на третьем круге. И я чертовски мало знаю о гомункулах. Я даже не знаю, есть ли у вас нервные окончания, способные ощущать боль. Но я знаю, что эта штука разъест тебя нахер за неполный час. Выест глаза, сожжет кожу, растворит тело. Может, меня в объятьях того выблядка, что вы зовете Цинтанаккаром, ждет не самая приятная участь, но обещаю, ты успеешь трижды мне позавидовать, прежде чем превратишься в плавающую в банке полупереваренную соплю!
Гомункул дернулся несколько раз, с ненавистью глядя на нее. Это была ненависть, Барбаросса знала это совершенно точно. Его лицо не успело сформироваться, оно представляло собой лишь бугристой комок плоти с парой холодных выпученных глаз, но она прожила на свете шестнадцать долгих лет и, черт возьми, могла узнать ненависть в любом из ее миллионов оттенков.
— Чего ты хочешь, ведьма?
Барбаросса оскалилась. Света от ближайшего фонаря было достаточно, чтобы она увидела в отражении бутылочного стекла свое собственного лицо — переплетение шрамов, похожее на дьявольскую маску. Это не умерило ее злости, напротив, разожгло, превращая маленький каминный уголек в ровно гудящий жар.
— Хочу, чтобы ты сплясал ригодон[3]! И не так жалко, как пляшут в Миттельштадте, а по-настоящему, выкидывая коленца! Хочу, чтобы ты сожрал дохлую крысу у меня на глазах! Хочу…
Гомункул дернул головой.
— Довольно, — буркнул он, — Не хочу, чтобы ты истощала чрезмерным напряжением свою и так небогатую фантазию. Чего ты хочешь?
Это было капитуляцией, но Барбаросса не ощутила удовлетворения, которое обыкновенно испытывала после схватки. Смешно сказать, схватка — с существом, которое не смогло бы побороть даже один ее палец…
— Во-первых, с этого момента и впредь ты будешь обращаться ко мне уважительно и достойно, как вассал обращается к сеньору.
Личико гомункула скривилось.
— Так тебе не терпится стать моей хозяйкой?.. Чертовски мило. Может, еще усыновишь меня? Обещаю, я буду самым любящим и верным дитем в этом трижды блядском городе и…
Барбаросса поднесла склянку с уксусом к горлышку сосуда и уронила вниз каплю. Одну-единственную каплю, но гомункул вздрогнул, точно услышал, как трескается стекло его обиталища. Крохотные ручки испуганно дернулись, не обремененный зубами рот несколько раз широко раскрылся, демонстрируя серо-алое нёбо, украшенное крохотными язвами.
— Черт! Хватит! Не надо!
— Ты будешь обращаться ко мне уважительно и достойно, как вассал обращается к сеньору, — терпеливо повторила Барбаросса.
— Буду, — гомункул ожесточенно потер ручками глаза, — Черт, буду. Буду именовать тебя «госпожа ведьма», если тебе так угодно. Хоть бы и «госпожа герцогиня»…
— Достаточно будет называть меня по имени, Барбароссой.
— Хорошо… Барбаросса.
— Смышленый малец, — Барбаросса одобрительно погладила сосуд по стеклянному боку, — Сколько бы нам ни осталось времени, ты будешь вежлив со мной, обходителен и учтив. С этим все ясно. Второе…
— Что?
— Ты расскажешь мне все о существе, которого называют Цинтанаккар. Прямо сейчас. Все, что тебе известно. Все, что ты знаешь. И если утаишь хоть что-то, поверь, будешь отчаянно в этом раскаиваться, чувствуя, как уксусная кислота разъедает твое мягкое тельце.
Гомункул нахмурился. Барбаросса не имела ни малейшего представления о том, как ему удаются гримасы, его лицо явно не достигло той стадии, на которой формируются мимические мышцы, рыхлая кожа плотно прилегала к костям раздувшегося черепа. Но каким-то образом ему удавалось вполне сносно передавать одной мимикой человеческие эмоции.
— Я расскажу, — согласился он, — Но не жди от меня слишком многого, ведьма… То есть, Барбаросса.
— Согласна и на ведьму, — буркнула Барбаросса, — Выкладывай.
Гомункул поежился в банке. Точно ему на миг, несмотря на толстое стекло и слой питательной жидкости, передался холод вечернего броккенбургского ветра, беспокойно шныряющего в подворотнях, точно ищущий добычу головорез.
— Я не так уж много о нем знаю, — вздохнул он, — Наши виды не находятся даже в близком родстве друг с другом. Я — то, что когда-то должно было стать человеком, заточенный в банку плод, он — демон, прирученный и связанный, покорный своему хозяину, но злобный как все адские отродья.
Барбаросса вновь ощутила заточенную в ее плоть горячую дробинку. Показалось ей или нет, но дробинка эта как будто бы сместилась немного вправо и вниз, теперь она размещалась не в грудине, за сердцем, а над печенью. Возможно, она только мерещится тебе, Барби, возможно это просто твоя чертова мнительность и…
Дробинка дрогнула. Едва заметно, но даже этого было достаточно, чтобы Барбаросса испуганно прижала ладонь к животу.
Ни хера не мерещится. Там, внутри нее, в самом деле засело нечто скверное. Оно не ощущалось живым — яйцо, что не успело проклюнутся, крохотное семя, оброненное в ее потроха — но оно ощущалось чужеродным. Отчаянно чужеродным и… опасным.
— Но ты кое-что знаешь о нем, так?
Гомункул неохотно кивнул.
— Мы с ним делили кров у старика. Не очень долго, около трех лет. И, как все домочадцы, имели возможность немного… присмотреться друг к другу. Я мало сведущ в демонах и никогда не изучал адских наук, но про охотничьи повадки этого кое-что знаю.
— Он в самом деле так злобен, как говорила Бригелла?
— Злобен? — гомункул усмехнулся, — Помнишь ту тварь, что пошалила в Нижнем Миттельштадте в прошлом июне?
— Демон Мариол, — машинально произнесла Барбаросса, — Младший конюший из свиты короля Астилиэля. Он рассвирепел из-за того, что тем днем повстречал на улице рыжего человека, а Мариол ненавидит рыжих. Магистрат за день до того приказал всем рыжим надеть колпаки, да только…
— Даже в Броккенбурге, городе на вершине ведьминской горы, находятся недалекие дураки, не соображающие, с какими силами имеют дело, — кивнул гомункул, — Мариол в ярости освежевал на месте незадачливого рыжего, и еще две дюжины прохожих и простых бюргеров. Из их кожи, говорят, он скроил прелестные половички, которыми украсил двери окрестных домов…
— Цинтанаккар так же зол?
Гомункул хмыкнул.
— По сравнению с Цинтанаккаром Мариол сошел бы за забавляющегося щенка, треплющего хозяйскую обувь. Тварь, которая поселилась внутри тебя, не просто зла, это воплощение адского пламени, способного сожрать все, с чем соприкасается. У него нет силы, как у адских владык, но, к твоему несчастью, ему довольно и того, что он имеет, завладев твоим телом и всеми его потрохами. Он черпает вдохновение от чужой боли и поверь, в этом искусстве он чертовски сведущ.
Барбаросса инстинктивно прижала руку к печенке.
— Значит, он намерен пытать меня, пока я не повинюсь и не вернусь к старику?
Голова гомункула едва заметно дернулась — кивок на человеческий манер.
— Ты даже не представляешь, как много слоев и смыслов у того явления, которое вы, люди, легкомысленно именуете болью. Он будет терзать твою плоть, он будет медленно ломать твой рассудок, он будет причинять тебе пытку за пыткой, пока течет отпущенный тебе срок, и с каждым разом усиливать нажим. Пока ты не превратишься в обезумевшую тень, мечущуюся по городу в поисках спасения. Но спасения не будет. Если мы с тобой не найдем его сообща. И, смею заметить, наше время тает с каждой…
— Кто он таков? — быстро спросила Барбароссы, — В чьей свите состоит? Каким титулом владеет?