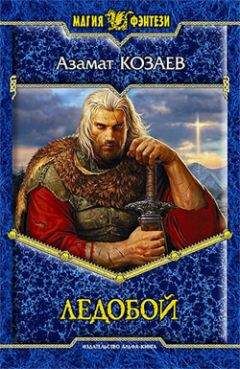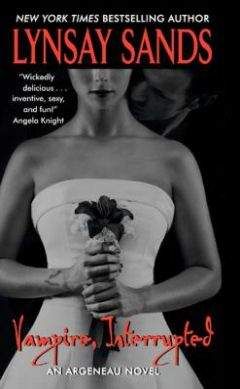Азамат Козаев - Ледобой. Круг
– Мне тоже. – Старик вздохнул. – Помню, еще мальчишкой застала гроза в поле. Сам невелик, от страха глаза велики, ночь в спину дышит, смеркается, и тут как полило! Да не просто полило, а с молниями! Стегают землю через два счета на третий. Раз-два-молния, раз-два-молния. Гром уши рвет, а я, дурачок, стою в чистом поле и шагу от страха ступить не могу. Боюсь молний. Куда ударит? Вдруг сделаю шаг, другой, а туда ка-а-ак шарахнет! Или, наоборот, сойду с места, и туда, где только что стоял, попадет стрела Ратника!
– И что?
– Пока трясся от страха да раздумывал, как лучше поступить, ливень кончился, молнии ушли на запад, небо просветлело. И Безрод такой же. Что скажет – не знаешь, куда ударит – не угадаешь, что внутри делается, какие мысли думаются, – как в тумане. Лишь одно знаешь точно.
Старуха вопросительно покосилась.
– Бьет насмерть, поганец, – улыбнулся ворожец. – Солнце падает… Пора?
Ясна, глубоко вздохнув, кивнула. Стюжень, кряхтя, вылез из-за станка, мгновение колебался, наконец решительно одолел несколько шагов между поддувалом и дымоходом. Снял тряпку, черную от копоти, бросил под ноги.
– Которая по счету?
– А который день, множь на два.
– Дорого, подлец, обходится, – усмехнулся верховный. – Восемнадцать тряпиц извели, и то не ясно, с пользой ли!
За плечи вытащил Безрода, с замиранием сердца перевернул на спину и, тая дыхание, оглядел. Рана обуглена, запеклась кровяной коркой, от сажи сделалось почти невозможно отличить кровь от зольной черноты. Ковырнул пальцем края пореза, снял сажной налет, для верности потер тряпицей. Нигде даже следа льдистой корки, истаяло, ушло.
– Ушло! – мощно выдохнул Стюжень и на весь двор крикнул: – Ушло! Будет жить!
Сивый болезненно застонал, распрямился на земле, и ворожея бросила ему черную тряпку, дескать, прикройся. Безрод приподнялся на тряских руках, с колена встал на ноги и, шатаясь, обвязался.
– Встал?! – прибежал Гюст.
– Жив… – от поленницы прошептала Верна. Хотела встать с колоды, только сил не нашла, рухнула обратно как подрубленная.
– То-то же! – еле слышно сипнул с крыльца Тычок и повалился навзничь. Остальные услышали звук падения, но не возглас.
– Ты гляди. – Ворожея всплеснула руками. – Ожил, баламут, на крыльцо вполз!
– Тычок буянит? – шепнул Сивый.
– Кто же еще? – Стюжень развел руками.
– Который день?
– А догадайся.
– Девятый… – Безрод тяжело сглотнул и прикрыл глаза. – Устал, спать хочу.
– Сначала баня. – Ворожец не сводил с него глаз.
– Что уставился?
– Поверить не могу, что такое возможно. Кому расскажу, брехуном назовут…
Сивый, отпаренный, дочиста отскобленный, видел десятый сон в амбаре. Не выдержал, уснул прямо в бане, ворожец принес в избу уже сонного. Ясна попросила не глушить печь, вознамерилась печь с утра хлеба. Верна спала отдельно от всех, в овине. Гюст ушел ночевать в Улльгу – слава богам, теперь можно, все позади. Ворожцы одни сидели у печи. До сих пор язык будто узлом был увязан, Ясна не находила сил рассказывать, зато теперь поведала Стюженю все, что знала. Как впервые Безрод переступил порог дома в Торжище Великом, как привел с собой Тычка и двух рабынь, как играли свадьбу, про побоище на поляне у Срединника.
– А потом ровно что-то произошло. – На широкой лавке у печи старуха месила тесто к утренним хлебам. – Случилось нечто такое, что развело их пути-дорожки в разные стороны. Даже смерть Гарьки показалась ей сущей мелочью перед лицом неведомого. Перешагнула и дальше пошла.
– Дела-а-а, – угрюмо протянул Стюжень, забрасывая в печь дрова. – Теперь держись от Безрода подальше, пока мертвечина с него не стечет. Уж на что мы с Гюстом здоровы, а тут сердце понесло, как лошадь, в висках застучало. Еще старое охвостье не истаяло, новое наросло!
– Парень только что с Той Стороны вернулся, а даже глазом не моргнет. – Ясна покачала головой. – Дважды за кромку ходил, а будто всего-навсего погулять вышел.
– Не знаешь, где молния ударит, но ударит непременно, – смеясь, напомнил верховный. – Тот, кто снарядил дружину потусторонников, не мальчишка с соседней улицы. И шутками тут не пахнет. Молчит Верна?
– Как воды в рот набрала. Лишь талдычит: «Шесть дней, пять дней…»
– Что-то станется через пять дней. – Ворожец глубоко вздохнул. – И мы узнаем, почему Гарьку принесли в жертву, ровно бессловесного ягня.
– Добрая была девка. – Ворожея всплакнула. – Улыбчивая. И вот нет ее.
– Не знал деваху, но если Сивый посчитал ее хорошим человеком, так оно и есть.
– Тесто готово. – Ясна утерла испарину, оставив на платке мучную полосу. – Утренний хлеб – как раз то, что Сивому теперь нужно.
– И печь очистим. – Верховный тепло погладил глинобитную стенку. – Не бросим такую красавицу в беде. Хлеба прогонят мертвечину. Что для тебя Безрод, ворожея?
Вздохнула, устало пустилась на лавку.
– Он – мое прошлое и настоящее. Там, за грядами былого, восстает в рост мой страх, и у него глаза Безрода…
Стюжень свел брови на переносице, поджал губы.
– Сивый – мое настоящее. К жизни вернул, перестала за спину оглядываться, успокоилась. Хотя чего там, успокоилась. – Ворожея прикрыла глаза ладонями, не сдержалась, заревела. – Покой он мой забрал, душу разбередил! К себе привязала бы, заставила около юбки сидеть и смотрела день и ночь!
– Сивый только что мать стризновал. Тот костер, что горел, когда вы подоспели, он и был.
Ясна без слов кивнула. Слезы душили.
Наутро Безрод встал, шатаясь, обошел двор, сел у поленницы. Гюста ворожцы предупредили близко к Сивому не подходить, тот и сам почувствовал недомогание – глаза слезились, в ушах шумело, затылок будто кузнецкими клещами сдавило.
– От парня потусторонщиной так и несет, – усмехнулся Стюжень. – Чего же ты хочешь? Ничего, день за днем истает, как старая, ветхая рубаха на ураганном ветру.
– Мне запрещаешь, а сам идешь! – Гюст почесал загривок.
– Мне можно, – бросил старик за спину. – Я привычный.
Хлебнув крепкой браги, верховный задом потеснил Безрода на колоде. Тот молча подвинулся.
– Выжил, босота?!
– Выжил. – Сивый косил на овин, в котором обитала Верна. На мгновение появилась в дверях, окинула двор мимолетным взглядом и скрылась в полутьме.
– Ты хоть понимаешь, что сказал Брюнсдюр перед смертью?
– Понимаю.
– Голову поставлю на кон – такой повивальной бабки, точнее, повивального дядьки не было ни у кого из ныне живущих.
Безрод кивнул. Что ни день, то неожиданность. Мать нашел, теперь вот повивальный дядька, да такой, что дыхание спирает.
– Ледован и разложил твою мать в посмертный крест, – вздохнул Стюжень. – Вот и спрашивай теперь, почему в стужу не мерзнешь, мертвящий холод тебя не берет, как исхитрился дважды с Той Стороны вернуться.