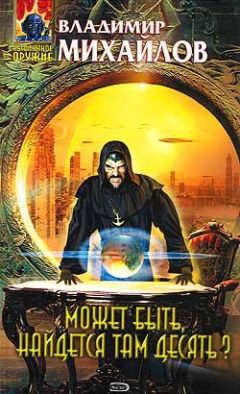Ростислав Левгеров - Тысячеликий демон
Доброгост был мертв, или пребывал в каком-то странном состоянии. На эту мысль князя навела замеченная им в последний момент рука, мертвенно-бледная рука, покрытая черно-синими венами, ускользнувшая в низкую дверку в дальнем углу кельи. Но князь побоялся кинуться вслед за… существом. Побоялся, или, вернее, не решился узнать тайну, к которой так стремился.
Он присел на край кровати, рядом с распростертым телом Доброгоста.
– Значит, проклято это место, – произнес Андрей в глубокой задумчивости. – Проклято и, кто его знает, может от этого все наши беды? Незачем нам совать свой нос в чужие дела. – Князь прикрыл писарю глаза, но они снова открылись. Труп уже окоченел. – Что такого узнал Нестор? Что узнал Доброгост, что увидел? Вы слышите? Хотите, чтобы я ушел? Хорошо, я уйду. Возьмите его себе, не знаю, как вас назвать. Похороните. Или… ведь он живой, не так ли? И Нестор…
Стеллаж закрылся сам собой. Андрей добрел до кресла, обессилено опустился в него. Он не сразу обратил внимание, но тело больше не болело. Это неприятное чувство, словно кто-то вытягивает, выворачивает тебе суставы, исчезло.
"Никуда не пойду", – подумал он, засыпая в уверенности, что следующим утром он проснется более свежим и здоровым, чем обычно.
Множество рук грубо схватили Искру. Она находилась в полуобморочном состоянии, и не понимала, куда ее ведут. Что с Мечеславом? – эта единственная мысль тупо крутилась в голове.
Девушку волокли, словно мешок с овсом, ноги не слушались, не успевали, заплетались. Ее бросили на пахнущий навозом пол, покрытый влажной прелой соломой. Заскрипела дверь, загремел засов, и ключ с оглушительным лязгом повернулся в навешенном замке.
"Вот и всё, – подумала она в небывало обреченном состоянии, охватившем всю ее, стиснувшей ее нутро горячей хваткой. – Вот так все закончилось. Вот что за участь ты уготовил мне, батюшка. Млада погибла от рук степняков, на чужбине, а я… а я… тоже, на чужбине".
Она долго проплакала, так и не поднявшись; обхватив живот, свернувшись в комок. Она смертельно боялась. За себя, за возлюбленного, такого несчастного, горемычного. Она боялась так, что не решалась открыть глаза – ей казалось, что вокруг висят искалеченные пытками багунов люди, и с немым укором смотрят на нее.
Её заперли в конюшне, в каком-то помещении, может быть в овине. В денниках тихо пофыркивали кони, переступая с ноги на ногу. Искру успокоило их присутствие и она, прислушиваясь к шорохам в конюшне, в конце концов, заснула.
Сон, приснившийся княжне в те предутренние часы, был сбивчивым, изменчивым. Но она запомнила его. Она видела Девятку. Он лежал в какой-то грязной тесной землянке, даже не в землянке, а в норе, на шкурах. Рядом, прямо на земляном полу, сидела старая взлохмаченная женщина, одетая в нечто, с трудом напоминающее одежду: лоскутки необработанной кожи, грубо сшитые еще зелеными стеблями. В руках женщина-дикарка держала подобие глиняной кружки, или неправильной формы чашу, и поила десятника остро пахнущим отваром из трав.
"Как хорошо. – Искра проснулась, почувствовав как солнечнее лучи коснулись ее закрытых глаз. – Как хорошо. Он жив. Он всё-таки спасся".
Но Искра так и не открыла глаза, продолжая неподвижно лежать на холодном полу. Она по-прежнему опасалась увидеть… что? Кроме нее и лошадей здесь никого нет. Мучительно долго текли часы. Никто за ней не приходил, и она уже ждала, ждала, когда же решится ее участь.
Наконец она не выдержала и поднялась, смахивая прилипшие к платью зерна и солому. Прихрамывая, подошла к двери и приникла к щели в двери. Конюшенный двор был пуст.
Однако посередине стоял окровавленный пень, с воткнутым в него топором. Один вид этого пня вызвал у Искры новый прилив страха. Она попятилась и забилась в самый дальний и темный угол овина.
Пока княжна сидела, дрожа в ожидании своей участи, рисуя себе невероятные картины страданий, что предстоит выпасть на ее долю, во дворе раздались голоса.
Лют Кровопийца сидел на ступенях, ведущих во дворец, постукивая палкой-посохом по носку сапога, поеживаясь от пронзительного ветра, и, чуть склонив голову набок, смотрел на затянутое светло-серой пленкой небо, словно спрашивая у него, что ожидает нас дальше?
– Нет, ребята, – произнес он равнодушно. – Либо вы с нами, либо…
– Либо что? – раздраженно спросил Горыня. Его лицо пылало ярким румянцем. Княжич был, во-первых, немного пьян, во-вторых, жутко зол, и эти два обстоятельства разжигали в его душе небывалый огонь.
– Либо вы умрете, – пожав плечами, ответил Лют. – Умрете, ребятки, хоть, видят боги, вы мне нравитесь, особливо вон тот здоровяк, со шрамом, что скалит мне зубы за твоей спиной. И тот, молчун. Не из степняков, нет? А мне всегда хотелось посмотреть, какие они. Из нашего ль теста слеплены, а? Чё скажешь, молчун? Не хошь говорить, да? Ну ладно. А мы могли б… эээ… как там? Стакнуться чтоль?
– Освободите мою сестру, – потребовал Горыня, нервно содрогнувшись, что подпортило впечатление от его слов.
Лют покосился на него и хитро, по-старчески, усмехнулся.
– Этого, – протянул он, – не могём. Не могём, братишка, не могём. Никак. Уж больно-то Военег-батька осерчал на ее.
– За что?
Лют снова взглянул на Горыню.
– Да за шо? Знамо дело, за шо. За коварно умерщвленного братца яво, вот за шо. За шо ж еще-то?
– И что, вы хотите сказать, что она…
– Подговорила любовничка сваво убить Бориса, точно, – спокойно закончил за него Лют. – Это ж очевидно. Сам-то Мечеслав разве мог? Да он, как мои други балакают, и двух слов связать не могет. Хе-хе. Подговорила девка его, и баста. Девка-то мудра, шо сам Военег. Дескать, пусти Борьке-то кровь. Военег-то, только того и ждет. Он-де тебе только спасибо скажет. Во-во.
– Бред.
– Подбирай слова, добр молодец. Зелен еще, чтоб старику-то грубить. Во-во. А, братцы?
Гриди Люта заулыбались, самодовольно закивали головами, с презрением поглядывая на побледневшего венежского княжича.
– Зелен? – начал он, но тут его оборвал Злоба.
– Князь, – пробасил он, – отойдем, поговорим?
– Ну чего тебе? – набросился на него Горыня, после того, как десятник, довольно грубо, отвел его в сторону.
– Не кипятись, командир, – сказал Злоба. – Грубостью ты ничего не выгадаешь. Проиграна схватка эта. Ничего уж не пописешь.
– Попишешь, – хладнокровно поправил Черный Зуб.
– Попишешь. Хитростью надо. Мечеслав главу свою по глупости, аль еще почему, на плаху уж положил. Казнит его Военег, да и верно это – разве можно простить убийцу брата? По безумству он, иль как, но бугунам этого не объяснишь. Видал, как глаза их горят? Так что плюнем на него, бедолагу, и будем выручать Искорку. Но, княже, хитростью. Давай к самому, что с этим холопом разговаривать.