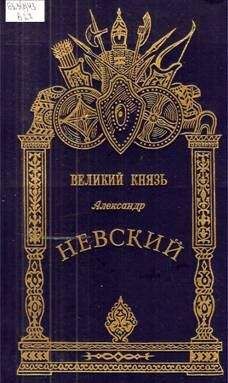Дана Арнаутова - Год некроманта. Ворон и ветвь
До дома шагов полсотни влево по улице. Чтобы разглядеть лучше, я перехожу на другую сторону, вглядываюсь в темноту. Ставни закрыты, за ними ни проблеска огня. Закрыв глаза и потянувшись к дому, различаю четыре огонька: один, золотистый, сияет ярко, но неровно, словно язычок колеблющейся свечи. Золото остальных мешается с белизной. Вряд ли инквизиторы всерьез считают Бринар ведьмой, иначе прислали бы не троих, а больше. Ведь ведьма с двумя почти взрослыми детьми — это уже гнездо нечисти. А может… Я замедляю дыхание, еще сильнее погружаясь во Тьму, и она смыкается вокруг меня, ласково-спокойная, готовая откликнуться и служить — только позови. Дома вокруг вспыхивают серыми остовами балок, как кости призванного скелета — не жизнь, только ее подобие. Камень, окружающий балки, почти прозрачен… Я смотрю на огоньки. Три в доме напротив, еще два в том, что за ним, мой — третий, а дальше уже трудно разобрать. Может в других домах быть засада? Почему бы и нет. А дальше по улице, через несколько домов, еле видна кучка огоньков. Я открываю глаза, морщусь от боли. Слишком мало силы: не успел восстановиться дома, заряжал портал… Сегодня я не боец. А там, в конце улицы, наверняка ждут еще, кроме этих троих. И как они быстро!
Ладно, вряд ли меня кто-то успел разглядеть. Для этого надо было точно знать, куда смотреть, а луна совсем скрылась, да и снег все сильнее. Я возвращаюсь в переулок.
— Ну что? — не выдерживает мальчишка.
Он напряжен, как тетива, вот-вот сорвется. Оставить здесь или взять с собой? И то, и другое плохо.
Она ничего не спрашивает, только смотрит огромными на изможденном лице глазами, и я ловлю слабый запах, неприятный, хорошо знакомый. Так и есть, на воротнике плаща несколько темных пятнышек, а снег в паре шагов перекопан, словно там что-то загребали. Резкий кислый запах — оттуда.
— Вам плохо? — спрашиваю я.
Она молча упрямо качает головой. Пытается улыбнуться, виновато и смущенно, размыкает бледные губы:
— Что… там?
— Инквизиторы, — равнодушно, как могу, говорю я. — Трое в доме и еще несколько на улице. Ждут вас, но девочка тоже там.
Глаза — какого же они цвета? — расширяются еще сильнее. Она пытается кивнуть, но сгибается, едва не падая на колени, только желудок уже пуст, и ее выкручивают сухие спазмы, заставляя всхлипывать в промежутке между позывами. Мальчишка подскакивает к ней, поддерживает, через плечо бросая на меня яростный взгляд — я отхожу, отворачиваюсь. Все равно помочь нечем. Тяжело зреет выродок Бринара…
Когда за спиной наступает тишина, возвращаюсь обратно. Я думал, что бледнее быть нельзя? Можно, оказывается. Проклятье! Ну, вытащу я их, а потом? Того и гляди, она скинет ребенка или умрет родами. И все зря? Она смотрит на меня, будто понимая, о чем я думаю. В почти прозрачных глазах на осунувшемся лице глухая безнадежность, и это хуже мольбы. Тогда, в часовне, я знал, что отвечать на просьбы о помощи, но сейчас она не просит ничего. Может, боится услышать, что я попрошу за помощь в этот раз?
— Вы будете ждать здесь, — слышу свой голос, будто со стороны, с удивлением. — Ни за что не вздумайте высунуться на улицу. Обещайте слушаться — иначе я пальцем не шевельну.
Она кивает, и я, неисчислимое множество раз видевший, как взгляд умирает, впервые вижу, как в нем вспыхивает жизнь.
— А я? — угрюмо бросает мальчишка, и я прямо слышу, как он готовится возразить, что бы я ни сказал.
— А ты решишь сам, — отвечаю я. — Если останешься здесь, поклянешься, что не пойдешь туда, пока я не вернусь. Если пойдешь со мной, будешь слушаться каждого слова. И не для виду, а по-настоящему. Мне хватит хлопот и без того, чтобы усмирять твою строптивость.
Он оглядывается на мать. Ждал, что я решу за тебя? Нет, мальчик, хочешь показывать зубки, учись думать, чем это может обернуться. Лучше бы, конечно, остался. Помощи от него не будет, а под руку может подвернуться не мне, так церковным псам. Те-то уж точно нежничать не станут.
— Я пойду, — говорит мальчишка. — Матушка, вы…
Она кивает. Прячет глаза, опуская лицо, и это, пожалуй, к лучшему. Не хотел бы я сейчас видеть ее глаза. Мне хватило одного взгляда своей матери, когда я уходил с Кереном.
Мальчишка таращится на меня с нетерпением, Бринар… она смотрит на него, потом на меня — и опять на него, словно рыжая взъерошенная голова притягивает ее взгляд. Открывает рот — и снова смыкает сухие обветренные губы. Нет, я не буду ничего обещать. Дурная это примета. Да еще в канун Йоля. Сейчас каждое слово слышат те, за Вратами. И им лучше не говорить лишнего, ни словечка не обронить. Я-то знаю, чем оборачиваются обещания, когда грань миров так тонка.
Она осеняет его святым знаком, торопливо чертя стрелу в круге. Не странно ли? Призывать Свет Истинный против его служителей, которые, уж наверняка, так же призывают его против нее! Впрочем, тут не мне решать. Будь я Светом, скорее откликнулся бы ей, чем ждущим нас в доме.
— Да хранит вас… — она осекается, виновато опуская голову.
— Пусть хранит, — откликаюсь я. — Или хотя бы не мешает.
Говорить, чтоб она уходила, если у нас не получится, никакого смысла. Такая не уйдет, не бросит детей. Лишь бы не кинулась вслед, когда начнется заваруха, а в том, что она начнется, никакого сомнения. Мы ступаем по скрипучему снегу, не особенно скрываясь, но и не выходя на середину улицы, которую видно из окна. Мальчишка сопит рядом, от него веет напряжением. Щенок, который может и не успеть вырасти в волкодава. Стоило оставить, наверное…
— Что мне делать? — угрюмо спрашивает он.
— Пока что молчать.
Мы доходим до ворот соседнего с нужным дома, останавливаемся у забора. Так тихо, что еще чуть — и услышишь, как падают снежинки. Трое инквизиторов, полных сил и готовых к драке, с заряженными амулетами. А там, дальше, еще несколько, и один Темный знает, что у них в арсенале. Мальчишка переминается с ноги на ногу, он замерз, но дрожит не только от холода, и я все острее жалею, что взял его с собой. Насколько проще было бы одному!
— Так мы будем…
Развернувшись, я зажимаю ему рот ладонью, другой рукой прижав затылок. Наклонившись к самому лицу, говорю тихо, но четко.
— Я велел молчать. Еще раз откроешь рот без разрешения — отправлю к матери.
В глазах рыжего такая ненависть, что мне почти смешно, он дергается, но тут же, опомнившись, замирает в моих руках и нехотя опускает взгляд, пряча злость. Нет, так дело не пойдет.
— Я не смогу драться с ними на равных, — говорю негромко, вглядываясь в темную стену перед нами. — Их трое, и это не простые солдаты, а натасканные псы капитула. А во-о-он там, в конце улицы, ждут еще несколько.