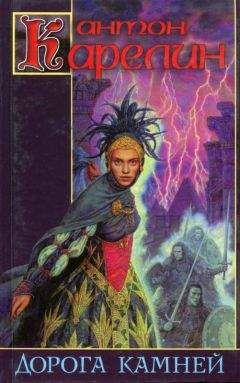Максим Далин - Корона, Огонь и Медные Крылья
Рассказ Керима звучал ужасно, но, осознав ужас положения, я вдруг проникся к Антонию сильным сожалением, почти любовью. Я видел, как именно здесь, в языческой стране, на смертном краю, в его душе вдруг начали пробуждаться живые чувства, до сих пор глубоко спавшие. Принц говорил со мною искренне, как дитя у первой исповеди. Его поведение и речи выдавали прежнюю нерассуждающую отвагу, горячность, безбожную гордость отпрыска королевского рода — но вдруг жаркое раскаяние и наивные попытки неумело размышлять.
Будто Те Самые с Божьего попущения за давние и тяжкие грехи королевского рода взяли себе игрушкою старшего из принцев, но, натешившись его душою, вдруг ослабили хватку. Будто их веселили его бесплодные метания. Будто на Скрижалях Судеб Антонию предписывалось нести горе, смерть и разрушение; возможно, это почувствовали государь и святейший отец мой под небесами — и, как надлежит дальновидным политикам, решили, что горе, смерть и слезы будет легче пережить, если они прольются подальше от нашей родины.
Выход, подсказанный государственным разумом.
А Керим рассказал, что принц Тхарайя, по закону и обычаю этой земли, должен принести себя в жертву, как только нечисть уберется к себе в преисподнюю — дабы закрыть ей путь в мир живых. И я с горестию решил, что огненное дыхание Той Самой злой воли коснулось и здешней короны.
И что я сам — карта в той же игре, я отчего-то призван участвовать в войне двух обреченных принцев…
Тхарайя, очевидно, знал, что обречен. Я глядел в его лицо, и встречал взгляд, исполненный спокойного и печального понимания. Он был — человек долга, как и я, грешный; только, в отличие от меня, он не пытался роптать на судьбу. Но, даже глядя в долину смертной тени, Тхарайя ухитрялся улыбаться и говорить забавные вещи; он, как святой отшельник, спящий во гробе, уже приготовился духом, как бы не принимая себя в расчет. Наверное, именно это давало ему сил более думать о войне и победе, нежели о своей горькой доле. Он был — кровный государь, готовый защищать страну любым способом, какой укажет воля Небес.
Антоний ничего не желал принимать. Я смотрел на него, на высокого и статного сильного юношу, годом старше меня — а видел ребенка, доселе не знавшего ответственности и горестей жизни. Брошенный промыслом Божьим в самую гущу трагических событий и усугубивший трагедию многих — он вдруг стал видеть скрытое от него доселе. Когда Антоний вдруг взмолился об отпущении, его лицо казалось несчастным и потерянным, а глаза повлажнели. Он напомнил мне мальчика, для забавы покалечевшего щенка: сперва бездумно веселясь, но после, увидав кровь и услыша вопли несчастного звереныша, дитя вдруг понимает, в чем заключается чужая боль и общность всех существ в Божьем мире — и корчится в нравственных муках от сознания вины.
Антоний в тот момент стал близок мне. Я, наконец, сумел выполнить данное мне Иерархом напутствие, искренне, став принцу товарищем. Я полюбил его, как любил бы своего несуществующего младшего брата, хоть он и был старше годами — или как свое невозможное дитя — может, из-за этого нашел в себе силы не утешать его, а заставить думать. Утешение гасит огонь небесный в душе; размышления его возжигают.
Как я мог пророчить ему смерть и забвение? Кто предскажет смерть внимающему и доверившемуся ребенку? Слаб я, Господи, слаб и пристрастен; прощать мне легче, чем носить мысль о возмездии в душе своей. Я сознавал, что грехи Антония смертно тяжелы — но мне казалось, что искупление возможно лишь за те муки совести, которые отражало лицо моего принца, когда он смотрел на проходящих языческих девушек. Похоть исчезла из его души вместе со злобой; с Тхарайя он простился дружески, а солдатам попытался сбивчиво втолковать именно то, что я сам не мог втолковать ему страшно долгое время, прошедшее со дня отбытия из нашей столицы.
Но — нет у меня права прощать, хоть я и слуга Божий. Есть это право у Тхарайя, есть у тех, кому приходятся родней убитые — а у меня этого права нет. И ложь суеверных обрядов в отличие от истины Писания — в том, что отпущение дают не имеющие права.
Смог бы я простить убийцу моей сестры? Моей матери? Взгляд Тхарайя леденеет, когда он глядит на Антония — несмотря на раскаяние, несмотря на боевой союз.
Керим напрасно обнадеживал меня. Я так же проклят, как все люди Антония, и мне так же, как и им всем, надлежит заслужить искупление.
Мне не следовало лезть в драку невооруженным. Я ведь знал, что змеи из преисподней — отвратительные, но живые твари — не боятся Света Взора Божьего, а потому мне нечем помочь солдатам. Но так уж вышло.
Я увидал, как гадина впилась клыками в руку, держащую саблю, и дернула молодого солдата к скале с такой силой, что его запястье едва не погрузилось в скалу. В единый краткий миг я понял, что, буде змея втащит человеческую руку внутрь своей горы, ладонь можно будет лишь отсечь, но не извлечь — и подобрав камень, ударил змею по голове.
Голова адского чудовища расплющилась подобно воску, и солдат освободился — но вторая змея вдруг выскользнула из скалы прямо перед моим лицом. Я едва успел отпрянуть; оттого нечистая тварь укусила меня не в горло, но в плечо.
Я, конечно, по сану — воин Господа, но когда дело доходит до того, чтобы драться не верой и молитвой, а кулаками или посредством оружия, у меня это неважно выходит.
Когда люди Антония разделались со змеями, я спросил нашего проводника-дракона, смертелен ли яд этих тварей.
— Нет, — отвечал тот. — Подземные змеи имеют естество хищников-кровопийц и постоянную нужду в крови, как большая часть обитателей сих нечистых мест. Они норовят обессилить ядом свою добычу и утащить в логово под землею, где, опутанный змеями, подобно как связывают веревкой, несчастный медленно умирает от потери крови, не в силах сопротивляться.
— Значит, — сказал я, — нам грозит болезнь, но не смерть?
— Если яд вышел с кровью, — сказал Рааш-Сайе, — то только болезнь. Но если яд остался в ране, то через несколько времени она может начать гнить. Впрочем, вскоре мы встретимся с Керимом, а он возвращал с того света и смертельно раненых.
Выслушав эти слова, я успокоил бойцов, укушенных змеями, с легким сердцем. Мое плечо горело, словно бы в него ткнули факелом, но я возблагодарил Господа за оставленную жизнь — в моей жизни именно сейчас была настоятельная нужда, а мне, видит Бог, отчаянно не хотелось умирать, не закончив миссии. Антоний привел мне ослика; я заметил, как он смотрит на меня, и подумал, что мой принц понял еще кое-что значимое.
Другим людям, как и ему самому, бывает больно — а чужая боль заслуживает сострадания.