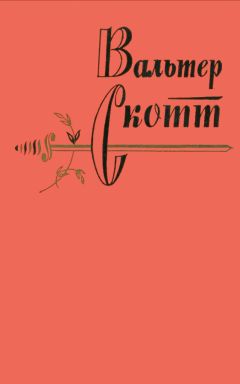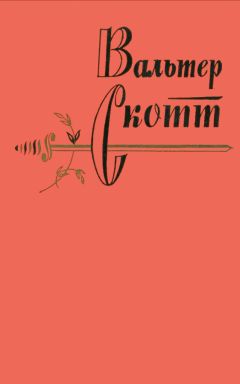Мария Теплинская - Короткая ночь
Данила избегал смотреть на своего непрошеного попутчика и отвернулся к реке. Воды Буга уже вернулись в свои берега и лежали теперь ясные и спокойные; лишь порой загорались то здесь, то там алые отсветы заходящего солнца.
Наконец, длымчанин заговорил:
— Вот ходишь ты до нас, паничу, уж второй год. А зачем ходишь? Али худо тебе в твоих Ольшанах? Да и худо было бы — так и у нас ведь ты не у дел: и нам ты без надобности, да и сам себе места никак не найдешь.
Данила лишь молча пожал плечами.
— Товарищей у тебя тут нет, — продолжал Горюнец. — Хлопцы-то наши, я вижу, не больно тебя привечают.
На это Даниле тоже нечего было ответить.
— А хочешь знать, почему не привечают? Оттого, что знают они: что-то тебе надо от них. Мы, брат, на такое чутки. Ты на Леську-то не кивай — та молода еще, доверчива, а я вот тебя, голубя, насквозь вижу — немало таких на своем веку повидал. Я, братко, много чего повидал, недаром ведь пол-России пешком прошел. А другие видать не видали и знать еще ничего толком не знают, а сердцем-то чуют!
— А кто ты такой, чтобы мне тут указывать? — небрежно бросил Данила. — Твоя, что ли, Длымь? Купил ты ее? И меня ты не купил: захочу — приду, захочу — нет.
— Да кто тебе указывает, помилуй Боже! — усмехнулся Янка. — По мне, так ходи, коли нравится. Да только верно я тебе говорю: добра тебе тут не дождаться.
— Да я уж скоро и вовсе ходить у вам не буду, — заявил ольшанич. — Недосуг мне будет, жениться пора приспела.
— Значит, правду люди гутарят, женят тебя? — все с той же насмешкой спросил Горюнец.
— Ну не всем же, навроде тебя, бобылями сидеть! — отчего-то вдруг осмелел Данила.
По лицу бывшего солдата прошла судорога, под кожей заходили желваки, а в глазах на миг вспыхнула яростная, ненавидящая боль. Но Янка стерпел, смолчал, взял себя в руки.
— И кого же родня засватала? — спросил он по-прежнему холодно и насмешливо.
— А тебе-то что за дело? Кого усватали — про то нам знать.
— Не вам, а им, — поправил Янка. — О тебе тут и речи нет, ты-то и на свинье рябой женишься, коли родня укажет.
Теперь сам Данила получил нежданный удар по больному месту. И тогда он — растерянный, перепуганный, вконец обозленный — бросил в Янке в лицо последний козырь:
— А хоть бы и свинья рябая — да роду честного! И мать ее, знаешь ли, не брюхатая под венцом стояла!
На миг Данила почти пожалел, что решился такое выговорить: Янкино лицо от гнева сделалось пепельно-бледным, брови резко взлетели кверху, открыв бешено метнувшийся взгляд. Данила знал, что солдату, несмотря на свою худобу и болезнь, ничего не стоит сломать ему шею, однако же Янка не двинулся с места, не поднял руки. А Данила сообразил, что просто бить ему не с руки: свидетелей не было, а Данила какой ни есть, а все же шляхтич, и если бы дело дошло до суда, что-де мужик сиволапый на шляхтича руку поднял, не поздоровилось бы и Янке, да пожалуй, и всей его Длыми солоно пришлось бы.
А Горюнец и в самом деле был близок к тому, чтобы схватить этого юного дерьмеца за горло. Ведь знал он, о чем толковал мальчишка, что не впустую тот языком мелет. Ох, найти бы ту змею подколодную, что Данилке про то рассказала; чтобы язык у нее отсох за такое…
Прав был Данила: Лесина мать и в самом деле шла под венец уже брюхатая; Микифор Луценко покрыл свой грех — покрыл сам, не было нужды его совестить, грозить да проклинать.
Знали про то немногие, и вслух никогда не поминали. Янка узнал случайно: в то время, когда развернулась вся эта катавасия с Ганниным замужеством, ему было всего лет шесть. Или уже семь? Ну, неважно — зато по малолетству его никто не стеснялся, и раза два или три при нем неосторожно обмолвились. Всего, понятно, не рассказали, только намеками. Он и не понял сразу, в чем дело; догадался уже потом, когда стал постарше. К тому времени Леся жила уже семье деда, история ее внебрачного зачатия успела изрядно позабыться — во всяком случае, никто про то больше не поминал. Даже сама Леся не знала об этом — от нее скрывали позорную тайну ее рождения.
Янке даже в голову не приходило, что кому-то из молодых это известно: никто ведь ни разу не помянул об этом даже случайно. Видно, стыдились друг друга: все знали, что т а к у ю выходку никто не поддержит.
И казалось бы, все улеглось, затихло на веки вечные, но вот стоило девочке вырасти, расцвести, полюбить — и вот поди ж ты! И ведь нашелся такой вот бессовестный человек, а вернее, даже и не один…
А Данила, видимо, чтобы вконец добить, выложил последнюю карту:
— Может, вашему хамову племени и дела нет до того; вы ведь на любой гулящей девке жениться готовы, была бы лицом хороша! А нам наш род и кровь беречь надобно от всякой срамной родни.
Но уж тут Янка не растерялся: хуже того, что он уже услышал, ожидать ему не приходилось. А потому он ответил почти весело:
— Вот оттого наши девчата лицом и хороши, куда до них вашим шляхтянкам! Да вот хотя бы твою нареченную с нашей Лесей рядом поставь; а впрочем, лучше и не ставить, нареченной с того позор один… М-да, жаль, конечно, — протянул он задумчиво.
— А что ее жалеть? — пожал плечами Данила. — Уж какая ни есть, а замуж идет, а вот Леське твоей доброго жениха не сыскать…
— Тебя мне жаль, панич, — ответил Янка. — Пропащий ты человек.
Глава четвертая
В субботу вся Длымь топила баню. Баньки стояли поодаль от хат, почти у самого Буга, чтобы можно было летом, вырвавшись из густого, тяжелого от горячей влаги пара с размаху броситься в студеную речную воду. А зимой бросались прямо в снег, купая в обжигающе ледяных сугробах распаренные до красноты тела.
Бани были далеко не у всех, и мылись в них обычно по нескольку семей сразу: сперва мужчины, а уж потом, ближе к вечеру, шли женщины с малыми детьми, и летом почти до самой ночи рассыпался над рекой девичий хохот и визг, когда охватывала жарко распаренное тело непривычно холодная вода. Часто подруги бросались в реку всей своей стайкой — и какие же брызги взлетали тогда над берегом — едва ли не выше деревьев! И какая шумная возня затевалась тут же, и с каким заливистым хохотом девушки обдавали друг друга каскадами брызг и награждали звонкими шлепками!
А в прибрежных кустах, нависших над самой водой, в сизых сумерках, случалось, и хлопцы хоронились, подглядывая за голыми красотками. Не все, конечно, так делали — только самые пакостные, вроде Михалки Горбыля; да и то это были известные на всю деревню личности, к которым никто не относился хоть сколько-нибудь серьезно, и гордые невесты брезговали такими женихами.
А еще бывало, что выпрыгнет вдруг из лозняка со страшным ревом такой вот молодчик — то-то поднимется девичий визг, да плеск, да переполох!