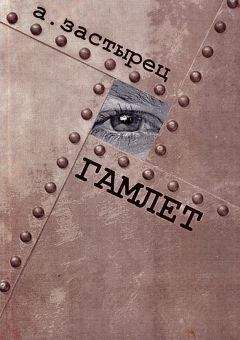Аркадий Застырец - Кровь и свет Галагара
Наконец, неподалеку на башне кто-то там, не помню, то ли рыцарь с мечом, то ли смерть с косой, шарахнул по колоколу своим инструментом — и я, международным образом окликнув механика, отчетливо назвал ему имя с визитной карточки. В тот же миг из глубин своего «Колумба» вынырнул Конрад А. Линц собственной персоной. Он приветливо помахал рукой и протянул ее мне, помогая взойти на борт и избавиться от пустых опасений.
В жизни моей не так уж много было кают, и со всеми уют рифмовался без натяжки. Не исключая той, куда я спустился во второй дубровницкий вечер. Угостив меня из бутылки с изображением бодро шагающего джентльмена на этикетке (названия что-то не припомню), Конрад Линц, как давеча, возложил на рукопись руку и уверенно сообщил:
— Что в этой рукописи хорошо, так это то, что не все в ней одинаково хорошо.
Не без труда переварив это софистическое высказывание, я удивился:
— Разве не лучше, когда все одинаково хорошо?
— Одинаково хороши, вероятно, лишь ангельские песни, — ответил с улыбкою Линц, вращая рюмку в пальцах. — Но целой книги ангельских песен я никогда не встречал. А мое выражение следует понимать в том смысле, что все ваши стихотворения хороши, но каждое — по-своему.
— Ах, вот как! Благодарю… — Проговорил я, уже откровенно польщенный.
— Не стоит благодарности… Вы пробовали свои силы в переводе с других языков? — Неожиданно спросил он, поставив рюмку на пластиковый стол скорее в качестве утвердительной точки, чем вопросительного крючка.
Я отвечал охотно и не без гордости перечислил французов, с которыми к тому времени более или менее коротко сошелся посредством переводческих медитаций.
— Так я и думал, — заметил Линц. — А ваши опыты в прозе?
Список моих прозаических достижений был менее внушительным, но весьма разнообразным, и также включал переводы французских текстов.
— И еще один вопрос. Надеюсь, он вас не смутит — ведь для недавно знакомых вполне естественно открывать друг другу свои литературные привязанности. Вы много читали и любите так называемую фантастику?
Я понял, что врать не смогу и засыплюсь на этом вопросе. Нет, разумеется, я мог без запинки назвать имена и даже произведения доброго десятка фантастов. Но даже среди этого перечня — прочитанного было слишком мало. И я ответил уклончиво:
— Читал, но не могу сказать, чтобы очень любил литературу этого рода…
На мое удивление Конрад Линц и тут ввернул свое излюбленное «Так я и думал», добавив:
— Какая же книга вам особенно нравилась в детстве?
Не знаю, как это вышло, ведь выбирать одну из множества любимых в детстве книг — непростая задача, но я вдохнул и выдохнул:
— «Песнь о нибелунгах» в переводе Корнеева.
С не меньшим основанием я мог назвать «Шах-намэ», «Приключения барона Мюнхгаузена» или «Легенду о Тиле Уленшпигеле», но, вероятно, результат был бы тем же. Мой собеседник с торжествующим видом поднялся и оценил мой ответ, протянув мне руку, которую я с радостью пожал.
— Если даже у меня были сомнения, — сказал он, — теперь от них не осталось и тени. Дело за малым: получить ваше согласие.
По простоте душевной я чуть было не ответил утвердительно тут же, забыв о том, что до сих пор не имею ни малейшего представления — под чем мне предлагают подписаться. Но Линц, по всей видимости не заметив моего порыва, продолжал:
— Однако, прежде чем разъяснить суть моего предложения, я, вероятно, должен сказать несколько слов о себе…
Я с готовностью кивнул, а он понимающе улыбнулся.
— Мое имя уже вам известно, уверяю вас, оно — настоящее. Я — наполовину русский и никогда не овладел бы, судя по опыту с другими языками, столь чистым произношением, если бы не моя мать. До войны, разумеется, последней мировой, жил в Париже и Вене, журналистика, короткие рассказы в развлекательных еженедельниках, неудачная попытка с большим романом в стихах и полный провал пьесы в любительском театре, антифашизм и антисталинизм в качестве идеологического кредо, затем — война, слабая попытка участвовать в Сопротивлении, арест, лагеря, побег и эмиграция в Соединенные Штаты, безработица в течение года, неожиданный успех серии моих репортажей, постоянное место в одной из крупнейших газет, поездки в Мексику, Гватемалу, Панаму, обвинение в сочувствии красным, возвращение во Францию, поездка в Юго-восточную Азию, война во Вьетнаме — разумеется, не на стороне агрессоров, снова Франция, Швейцария, Австрия, занятия историей и филологией, преподавание. Вот, собственно, и все.
«Ничего себе биография», — подумал я невольно и не решился ни на один вопрос, о чем до сих пор сожалею ужасно, ибо «вот, собственно, и все», что известно мне о жизни Конрада Линца.
Покончив с этим, он перешел к тому, что назвал «сутью своего предложения». Как оказалось, она сосредоточивалась в довольно увесистом кейсе. Линц водрузил его к себе на колени и, щелкнув замками, откинул крышку.
— Здесь рукописи, — сказал он, и в голосе его мне послышалась какая-то новая таинственная интонация. — В какой-то степени их можно считать результатом моего труда за последние несколько лет… Собственно говоря, я собираюсь доверить вам их дальнейшую судьбу. В случае, если вы не ограничитесь простым сохранением, задача окажется не из легких, но… Да вот, взгляните сами!
Я бережно принял этот «ящик Пандоры», от всего сердца полагая, что все зло, если оно в нем было, уже улетучилось и на дне покоится только надежда. Не знаю, так ли оно было на самом деле, но, стоило мне слегка разворошить его содержимое, и я решил, что горько ошибся в своих радужных расчетах.
— Что же мне с этим делать?
Уловив в моем голосе крайнюю растерянность с оттенком разочарования, Линц поспешил меня успокоить:
— Никаких обязательств, ни устных, ни, тем более, письменных! Я всего лишь предлагаю вам владеть моим имуществом, а уж как им распорядиться, это полностью передается на ваше усмотрение. Могу лишь предполагать. Возможно, вы захотите привести эти бумаги в порядок. Может статься, переведете на русский язык то, что написано не по-русски. Решитесь опубликовать в России или в другой стране — пожалуйста, ничего не имею против. Авторские права всецело принадлежат вам. Можете подписать своим именем или использовать мое. Мне и это положительно безразлично.
В недоумении я открыл рот, собираясь засыпать его вопросами, но он предупредил меня и угадал, о чем я в первую очередь собирался спросить.
— Почему бы мне самому не распорядиться этим богатством? Очень просто. Я отправляюсь… скажем так, в кругосветное плавание и уверен, как говорят, на все сто, что… — Тут он задумался ненадолго, а я не решился ему подсказать. — Короче говоря, здесь меня никто уже больше не увидит. Родственников у меня нет. Из друзей также — в живых никого не осталось. Нашу случайную встречу я счел подарком судьбы и даже подозреваю, что она не так уж случайна. Вы — недюжинный литератор; ваши качества вовсе не превосходны, но исключительно близки к моим собственным; наконец, вы — русский, а я не так давно пришел к выводу, что язык моей матери лучше иных мне известных способен передать галагарские понятия. — Он впервые употребил загадочное слово «Галагар», но я поначалу не обратил на него внимания. — Соглашайтесь, и вы снимете с моей души камень, в то же время ничем не обременив себя.