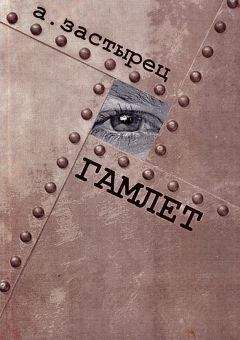Аркадий Застырец - Кровь и свет Галагара
Легкомыслие этой «дамы» признается всем человечеством, что позволяло надеяться — и надежда моя оправдалась — на безнаказанное продолжение моего адюльтера с вольной изящной словесностью, не требующей информповода, проверки соответствия фактам и прочей белиберды, угнетающей верных своему делу газетчиков.
Поэтому я, не раздумывая, подал заявление об уходе, как только обнаружилась подходящая вакансия. Директор школы, принимая мой меморандум, которого не могла отменить обязательная отработка, ибо впереди был двухмесячный отпуск, вздохнул с нескрываемой завистью.
А я не преминул усилить эффект, помахав заграничным паспортом и сообщив о предстоящей поездке в Югославию, тогда еще бывшую благодатной страной, продававшей советскому туристу двести тысяч динаров за пятьдесят целковых.
Это удивительное путешествие, а точнее теплоходный круиз по Дунаю с промежуточной автобусной вылазкой по маршруту «Белград-Дубровник-Сараево-Белград», на самом деле одна из довольно странных случайностей, какими, в той или иной степени, пестрит жизнь любого человека, и не только рожденного в СССР. Путевкой меня (правда, за мои же, в основном, деньги) наградил коммунистический союз молодежи, причем наградил за мою борьбу против него же на идеологическом фронте в доперестроечные времена. Впрочем, может, правильнее сказать — за его борьбу против меня. Лично я-то всегда предпочитал лояльность с большой фигой в кармане.
Но так или иначе, а в Дубровнике мне удалось провести целых пять дней. В первый же день я вволю накупался в голубых водах Адриатики и немного заскучал по причине отсутствия в них водорослей, медуз, полиэтиленовых пакетов и прочей гадости, которая своими прикосновениями всегда пробуждала во мне свирепую волю к жизни во время заплывов в Черное и Азовское моря.
Итак, вволю накупавшись и проглотив гарантированный ужин в столовой при кемпинге, где нашу группу остановили без особых удобств, я подумал, что спать в этаком парадизе есть самое тупое, а для меня, при моей впечатлительности, попросту невозможное занятие, и с наступлением темноты, наполовину одолеваемой лучезарным неоном, бодрым шагом направился в Старый город.
Ночью он выглядел втрое великолепнее, чем днем. Дух роскоши золотым костром полыхал за окнами развлекательных заведений. Дух нищей средневековой вольницы пародировался праздношатающейся молодежью. И все было непривычно благопристойным, чистеньким. Кругом курили, а под ногами ни одного окурка. Девчонки в мини-юбках украшали мостовую, мягко говоря, рискованными позами, но физиономии были неприступны, а трусики белоснежны. И сама мостовая была чистой, гладкой и теплой, как светлый шоколад.
Часа полтора бродил я взад и вперед в этом подозрительном интерьере под звездным небом и сам у себя домогался: что меня так тревожит и жмет посреди столь явной расслабухи и откровенных прелестей?
Деньги у меня были: карман невообразимо хрустел местными купюрами достоинством в десятки тысяч. Во всяком случае, на пиво хватало. Подавив совковый инстинкт, подбивавший напиться воды из фонтана и убираться баиньки, сэкономив валюту, я вышел из Старого города и бодро направился к одному из белых ажурных столиков, в бессчетном количестве расставленных по обширной площади возле какого-то ресторана.
Усевшись, я стал поджидать официанта. Но он ко мне не спешил, увлеченно обслуживая упитанную и подвыпившую чисто арийскую компанию. Честно говоря, я даже обрадовался такой нелюбезности, поскольку как раз занимался напряженным изучением своего изрядно подпорченного временем словарного запаса в надежде соорудить пару вразумительных фраз для объяснения с официантом на среднем арифметическом трех европейских языков, включая русский.
Наконец, остановившись на предельно упрощенном выражении «Бир, три батлз», я начал изнурительную борьбу с собственной застенчивостью в решении гамлетовского вопроса: схватить или не схватить… официанта за штаны во время какого-нибудь из его рейсов к немецкому столику и обратно с веером, соответственно, полных и пустых бутылок?
Застенчивость оказалась не слабее решительности датского принца и окончательно склонила меня к отрицательному ответу.
Но просто сидеть и ждать все же было довольно унизительным делом, и я, вытянув из заднего кармана блокнот с авторучкой, принялся старательно корчить Хемингуэя. Минут через десять я уже позабыл, где и зачем нахожусь, и решительно рифмовал звуки, приблизительно выражавшие тревогу, посетившую меня в Старом городе. Получилось неплохое, на мой взгляд, стихотворение в двадцать строк, открывавшееся откровенным:
Не милы мне покатые стены
Предстоящих судьбе городов…
и завершавшееся загадочным:
Как бы душу ни грели всечасно
Подтвержденьем дарованных прав,
Только смерть весела и прекрасна —
К этим теплым ступеням припав.
Как вдруг я обнаружил, что у меня за спиной кто-то стоит и через плечо заглядывает в мою писанину. Это было просто невыносимо, и я, не спрашивая разрешения у застенчивости, резко обернулся. Обернулся — и едва не задел своим носом нос любопытного и, разумеется, совершенно не знакомого мне господина. От неожиданности он вытянулся по стойке «смирно» и в смущении пробормотал без малейшего акцента:
— Вы позволите? Зажигалку… прошу прощения.
Я протянул зажигалку, но вопросительного взгляда не снял. А любопытный господин рассеянно покрутил ею в руке и, вероятно, к ужасу своему припомнил, что сигарет при себе не имеет. Еще больше смутившись, он не решился вдобавок попросить у меня сигарету, понимая, конечно, что и этим его странного поведения не оправдать, и неожиданно, кивнув и расплывшись в улыбке, представился:
— Конрад Линц, к вашим услугам. Вы позволите?
Пришлось и мне кивнуть, а когда он расположился напротив, расшифровать свой незатейливый вензель.
Внимательно разглядев навязавшегося на мою голову визави, я прежде всего обнаружил на его красноватом, слегка заостренном по-птичьи носу сияющие линзы в шикарно массивной роговой оправе. Добавив к ним изысканно подстриженный седой ежик, модную косынку, пышно цветущую под подбородком, снежно свежий блейзер из натурального хлопка, золотой зажим «паркера», скромно украсивший наружный карман, и, наконец, избыточное облако драгоценного галльского аромата, я получил портрет человека, которого не мог признать советским, даже если бы он заговорил без акцента не на русском языке, а, к примеру, по-ханты-мансийски.
Вероятно, разделявший мое мнение официант подскочил к нашему столику.