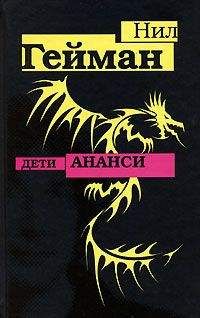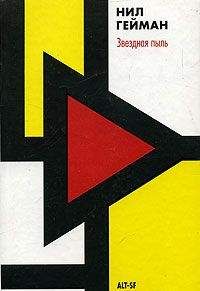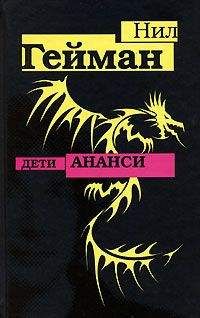Нил Гейман - Сыновья Ананси
На прошлой неделе он приобрел в Вильямстауне пистолет. На Сент-Эндрюсе легко купить оружие, этот остров как раз из таких. Большинство людей, правда, оружие не покупает, этот остров опять-таки из таких. Грэм Коутс достал из прикроватной тумбочки пистолет и прошел на кухню. Там он вытащил из-под раковины пластиковое ведро, швырнул в него несколько помидоров, сырой батат, наполовину съеденный кусок чеддера и пакет апельсинового сока. И – довольный, что подумал об этом, – рулон туалетной бумаги.
Он спустился в винный погреб. Из мясной холодильни не доносилось ни звука.
– У меня есть оружие, – сказал он. – И я не побоюсь им воспользоваться. Сейчас я открою дверь. Прошу, отойдите к дальней стене, развернитесь и упритесь в нее руками. Я принес еду. Будете сотрудничать – я отпущу обеих, не причинив вреда. Будете сотрудничать – и никто не пострадает. Это означает, – сказал он, восхищенный своей способностью развернуть целый батальон бессмысленных клише, – без глупостей.
Он включил в помещении свет и отодвинул засовы. Стены там были из кирпича и камня. С крюков в потолке свисали ржавые цепи.
Они стояли у дальней стены. Рози лицом к стене. Ее мать, обернувшись через плечо, смотрела на него, словно попавшая в ловушку крыса, взбешенная и исполненная ненависти.
Грэм Коутс опустил ведро; руку с оружием он опускать не стал.
– Чудесная жратва, – сказал он. – И ведро. Лучше поздно, чем никогда. Вижу, вы уже ходили в угол… Туалетная бумага тоже здесь. И не говорите, что я ничего для вас не делал.
– Вы собираетесь убить нас, – сказала Рози, – ведь так?
– Не зли его, глупая девчонка! – яростно сказала ее мать и, изобразив подобие улыбки, продолжила: – Мы благодарны за пищу.
– Конечно, я не собираюсь никого убивать, – ответил Грэм Коутс. Лишь теперь, произнеся это вслух, он признался себе, что да, конечно, собирается. Разве у него есть выбор? – Вы мне не сказали, что вас подослал Толстяк Чарли.
– Мы приплыли на круизном корабле, – сказала Рози. – Этим вечером мы должны жарить рыбу на Барбадосе. Толстяк Чарли в Англии. Я даже не думаю, что он знает, куда мы уехали. Я ему не говорила.
– Говорите что хотите, – сказал Грэм Коутс. – У меня пистолет.
Он закрыл дверь и задвинул засов. Через дверь он мог слышать, как мать Рози говорила:
– Зверь. Почему ты не спросила его про зверя?
– Потому что он тебе привиделся, мам, говорю тебе. Здесь нет никаких животных. В любом случае, он псих. Возможно, он с тобой согласится. Может, и ему мерещатся невидимые тигры.
Уязвленный Грэм Коутс выключил свет. Он вытянул бутылку красного и поднялся по лестнице, с шумом захлопнув за собой дверь в погреб.
В подвальной тьме Рози разломила кусок сыра на четыре части и съела первую так медленно, как только могла.
– Что это он говорил про Толстяка Чарли? – спросила она, когда сыр полностью растаял во рту.
– Твой чертов Толстяк Чарли. Не хочу о нем слышать, – сказала мать. – Это из-за него мы здесь.
– Нет, мы здесь, потому что этот Коутс вообще ненормальный. Псих с оружием. Толстяк Чарли тут ни при чем. – Она старалась не позволять себе думать о Толстяке Чарли, потому что, думая о Толстяке Чарли, неизбежно начинала думать о Пауке…
– Он вернулся, – сказала мать. – Зверь. Я его слышу. И чую.
– Да, мам, – сказала Рози.
Она сидела на бетонном полу мясной холодильни и думала о Пауке. Она скучала по нему. Когда Грэм Коутс образумится и отпустит их, она попытается найти Паука, решила она. Выяснить, не могут ли они все начать сначала. Она понимала, что это глупая мечта, но это была хорошая мечта, которая ее успокаивала.
Интересно, убьет нас завтра Грэм Коутс или нет, подумала она.
* * *На расстоянии пламени свечи от них Паук следил за зверем.
День клонился к вечеру, солнце за спиной висело низко.
Паук тыкался носом и губами в то, что было иссохшей землей, пока ее не пропитали слюна и кровь. Теперь это был комок грязи, шероховатый ком красноватой глины. Паук придал этой глине более-менее сферическую форму. И теперь пытался ее подбросить, поддевая комок носом и резко вскидывая голову. Ничего не получалось, и так было уже очень много раз. Двадцать? Сто? Он не считал. Он просто продолжал. Он опустил лицо в грязь, поддел глиняный ком носом, вскинул голову вверх и вперед…
Ничего не получилось. Ничего не получится.
Надо как-то иначе.
Он обхватил комок губами и сделал через нос максимально глубокий вдох. Затем выдохнул через рот. Шар выскочил из губ со звуком пробки из-под шампанского и приземлился примерно в полуметре от Паука.
Теперь он вывернул свою правую кисть. Запястье было накрепко примотано к столбу. Он потянул кисть к себе, поводил туда-сюда. Пальцы потянулись к кому кровавой грязи. И не дотянулись.
Он был так близко…
Паук еще раз вдохнул поглубже, но в горло попала сухая пыль, и он закашлялся. Он попытался снова, повернув голову набок, чтобы заполнить легкие. Перекатился и начал дуть в направлении шара, изо всех сил выдувая из легких воздух.
Глиняный шар сдвинулся. Меньше, чем на дюйм, но этого хватило. Паук потянулся и зажал глину в руке. Он ущипнул кусок глины двумя пальцами, затем повернул его и ущипнул снова. И так восемь раз.
Он повторил все сначала, на этот раз сжимая сплющенную глину чуть сильнее. Один из «щипков» упал в грязь, но остальные удержались. Теперь у Паука в руке был похожий на детскую модель солнца маленький шарик с семью исходящими лучами.
Он посмотрел на него с гордостью: с учетом обстоятельств он был так горд получившимся результатом, как бывает горд ребенок, принесший домой поделку из школы.
Слово, вот что было самое сложное. Слепить паука или что-то похожее на него из крови, слюны и глины было легко. Боги, даже младшие озорные боги вроде Паука, знают, как это делать. Но последний акт Творения неизбежно будет самым трудным. Чтобы вдохнуть жизнь, нужно слово. Ты должен дать имя.
Он открыл рот.
– Фррру-ур-ррурр, – сказал он безъязыким ртом.
Ничего не случилось.
– Фрру-ррурр, – попытался он еще раз.
Глина мертвым комом лежала в его руке.
Он уронил лицо в грязь. Сил больше не было. Каждое движение повреждало корку на ранах на лице и груди. Они кровили, жглись и, самое неприятное, чесались.
Думай, сказал он себе. Должен быть другой способ… Говорить без языка…
На губах все еще оставался слой глины. Он пососал их, увлажняя так хорошо, как мог – без языка.
Он глубоко вдохнул и позволил воздуху пройти через губы, контролируя это, как только мог, выговаривая имя с такой уверенностью, что никто во всей вселенной не мог бы с ним поспорить: он описывал тварь в своей руке, и он произносил собственное имя, лучшего волшебства он не знал: