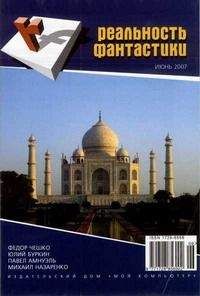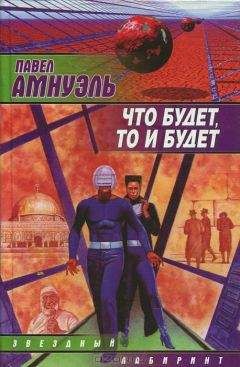Песах Амнуэль - Месть в домино
— …ни тех прекрасных стихов, которые я положил на музыку во втором акте, я имею в виду сцену Амелии с Ричардом, терцет и хор? Мы уже как-то обсуждали с вами эту странную историю.
— Я не писал этих стихов и никогда не посылал их вам по почте!
— Но вы согласились, что это был ваш почерк, — напомнил Верди.
— Да, — упавшим голосом сказал Сомма. — Мой. Возможно, кто-то подделал…
— Зачем? Вы адвокат, дорогой Сомма. Вы можете вообразить ситуацию, при которой хороший поэт (безусловно хороший, вы сами это признате!) подделывает почерк другого хорошего поэта и под его именем посылает мне стихи?
— Не могу, — сказал Сомма. — Но клянусь всеми святыми, маэстро, я не писал ни шестьдесят строк финала, ни дуэта, ни терцета, ни хора.
— Синьор Винья, побывав у вас, сообщал мне письмом, что вы согласились…
— Я сказал, что подумаю.
— Вы так сказали, но синьор Винья принял ваши слова за согласие и написал мне об этом, а через десять дней пришел по почте пакет от вас. Я не захватил с собой эти листы, но почерк и там, безусловно, ваш, дорогой Сомма.
— Верю, — пробормотал адвокат. — Это… Это совершенно необъяснимо. Я не знаю… Я сказал синьору Винья, что подумаю, и я действительно подумал. Я подумал, что, обращаясь ко мне через третье лицо, вы, маэстро, даете понять, что не желаете лично иметь со мной дела. Я должен был, наверно, сообщить о своем отказе синьору Винья, да, я должен был так поступить, но через неделю прочитал в газетах, что премьера назначена на семнадцатое февраля, и какой вывод я мог сделать? Конечно, тот, что вам, маэстро, оказались не нужны мои стихи, вы нашли другого поэта, и мой отказ потерял смысл!
Официант принес на подносе два больших блюда с дымящейся пиццей — на сыре лежали ломтики хорошо прожаренных томатов, и маслины, и все это было приправлено соусом, Верди вспомнил, что не ел с самого утра, Пеппина ждет его только к ужину, он сказал, что пообедает в театральном ресторане, но вместо этого, узнав от Яковаччи о том, где остановился Сомма, отправился сюда, сам не зная, что скажет адвокату при встрече.
Вино тоже оказалось прекрасным, Верди любил такие вина, сухие, но с легким привкусом едва различимой сладости — это была скорее сладость не вкусовая, а сладость внутреннего восприятия.
Несколько минут оба молча ели, не глядя друг на друга, а потом Сомма долил вина в оба бокала, поднял свой и сказал прочувствованно:
— Дорогой мой великий маэстро, любимый мой Верди, я хочу выпить за то, чтобы разъяснились все тайны и чтобы наши отношения стали опять так же чисты и прозрачны, как это вино, лучше которого нет в мире.
На глаза Верди навернулись слезы, и он отвернулся, чтобы Сомма не заметил его минутной слабости. Они выпили, и Верди сказал, подбирая слова так, чтобы не обидеть своего визави:
— Дорогой Сомма, конечно, я верю каждому вашему слову. Я никогда не считал вас способным ко лжи, тем более, что в этом не было никакого смысла. Больше всего я хотел бы видеть ваше имя на афише.
— Вы же знаете, маэстро, почему я решил…
— Да, я тоже был тогда в ужасном состоянии, я тоже хотел на все плюнуть, заплатить неустойку и никогда больше не возвращаться к этой несчастной опере. Но аббат Лукетти, ватиканский цензор, предложил компромисс, показавшийся мне спасительным. Право, дорогой Сомма, я ни на йоту не отступил от своих принципов, новые слова легли на музыку так же естественно, как снег ложится на поля ранней зимой, и место действия, характеры, вся атмосфера жизни, которую вели американские колонисты, оставаясь, по сути, европейцами до мозга костей…
Верди говорил и говорил, он чувствовал, что не может остановиться, у него начало першить в горле, он давно (наверно, со времен «Макбета», когда проводил долгие часы в салоне Кларины Маффеи и до одури спорил о туманном будущем Италии) не произносил таких долгих речей, но сейчас — видимо, подействовали тепло, уютная обстановка и замечательное вино — ему хотелось объяснять, и он говорил, а Сомма слушал, кивал и смотрел на маэстро все более восторженным взглядом.
— Вот так, — сказал Верди. — Сейчас я уверен: это лучшая моя опера. Наша опера. Я не знаю, кто прислал мне стихи, авторство которых вы так упорно отвергаете, но сейчас это не имеет значения. Это ваши стихи, дорогой Сомма. Они написаны вашим почерком, но даже не это главное: они ваши, потому что никто другой не мог написать так, чтобы моя музыка идеально совпала со мной же задуманным текстом. Я знаю ваш стиль. Я знаю ваше перо. Это ваши стихи, и вам не нужно их стыдиться. Прошу вас, дорогой Сомма, до премьеры осталось три дня, и Яковаччи еще успеет заменить афиши и отпечатать новые книжки либретто. Там должно стоять ваше имя.
Сомма покачал головой.
— Вы почти убедили меня, маэстро, — сказал он. — Но пока я не разберусь в том, кто на самом деле это написал, кто подделал мой почерк, кто послал вам письма, кто этот человек… И почему, наконец, я не получил два ваших письма, что тоже сыграло свою роль во всей этой странной истории!
— Вы упрямый человек, синьор Антонио, — одобрительно сказал Верди. — Я тоже упрям, в этом мы похожи. Пусть все остается, как есть. Вы согласны с тем, что это — хорошие стихи? С этим вы, полагаю, согласны?
Сомма тщательно прожевал последний кусочек пиццы, нацепил на вилку листок салата и принялся рассматривать его, будто надетую на иголку натуралиста редкую тропическую бабочку. Верди ждал. Сомма положил салат в рот, жевал долго, будто испытывал терпение маэстро, а может, так и было — да, испытывал, держал в напряжении, прежде чем признать, наконец, что стихи хороши, великолепны…
— Дорогой маэстро, — грустно сказал Сомма, — как же я могу знать, хороши эти стихи или плохи, если я их не только не писал, но и не читал?
— Конечно, — пробормотал Верди, пожимая плечами. — Не читали. Действительно, простите мне эту глупую забывчивость. Послушайте, синьор Антонио, я приглашаю вас посетить нас с Джузеппиной, мы остановились в отеле «Колон».
— Знаю, — кивнул Сомма.
— Не сомневаюсь, что знаете, — сухо отозвался Верди. — Если вы изволите быть у нас в семь часов вечера…
Сомма покачал головой:
— Простите, маэстро, — нет, я вынужден отказаться. Передайте мой огромный привет госпоже Джузеппине и мое искреннее ею восхищение, но… Надеюсь, вы поймете меня.
— Нет, я вас не понимаю.
— Ну как же! Я приехал в Рим инкогнито. Вы знаете газетных писак, маэстро… Моего имени нет на афише, но слухи… И вот я тут собственной персоной… Если я нанесу вам визит, об этом сразу станет известно.
— Но вы будете на премьере, и об этом точно станет известно! Не приедете же вы в театр, где вас многие знают в лицо, в черном домино и маске, как герои этой несчастной оперы!