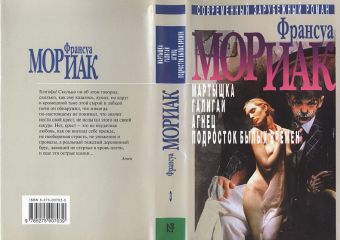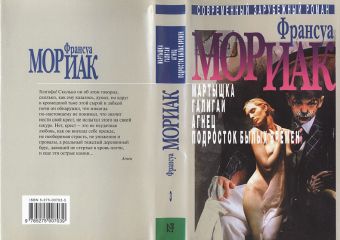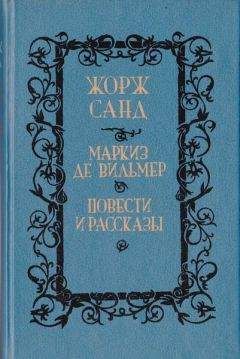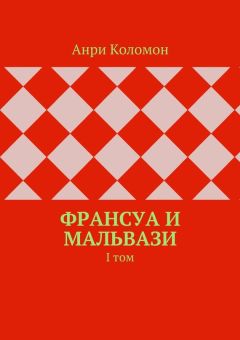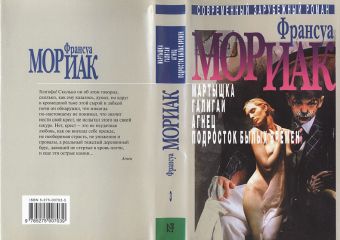Ольга Михайлова - Замок искушений
— Такая длинная надпись… вы перевели все?
Он заверил её, что да… это устойчивое выражение… Stygios manes adire, значит, умереть…
Элоди снова окинула его внимательным взглядом, улыбнувшись, заметила, что его знания показались ей весьма значительными ещё в время его лекции этому невежде Файолю, и спросила, зачем мсье Файоль пошутил на его счёт? Арман не сразу её понял, опять растерявшись от её лестных слов в свой адрес, но сообразив, что она спрашивает о том, что сказала Сюзанн, пожав плечами, заметил, правда, не поднимая на неё глаз, что Рэнэ не пошутил, а просто смеялся. Он всегда смеется. Ему смешна не только невинность, но и многое другое. Элоди кивнула. Да, мсье де Файоль действительно был смешлив — он смеялся над честью и совестью, над церковью и Господом. Они вошли в холодный сумрачный холл. Элоди повернула к лестнице и тихо ушла, и Арман Клермону показалось, что где-то зазвенели тихие струны, будто из маленькой часовни донеслись сдержанные, постепенно замирающие хоралы…
Глава 12. Повествующая о пьяных откровениях графа Этьенна, о любовных искушениях мсье Клермона и о некоторых весьма опасных экспериментах сестрицы его сиятельства
Арман солгал Элоди, но не согрешил, ибо солгал… по причине скромности. Он просто постыдился перевести вслух появившуюся надпись. «Горе тебе, молодая блудница, обреченная умереть…» Надпись изумила его, и произнести подобное при Элоди Клермон просто не решился.
Сам Арман подумал, что эти странные надписи просто бессмысленны.
При этом, ночной разговор с Элоди странно растревожил Клермона, и в то же время вызвал состояние неясного, гнетущего томления. Мадемуазель затронула в нём какие-то давно заглушённые струны. Он то и дело вспоминал её лицо, слова и жесты. Она назвала его красивым и образованным… Но перебирая в памяти подробности этой встречи, он неожиданно вспомнил сцену в столовой, где мадемуазель Элоди впервые увидела его сиятельство. Клермон помнил её изумлённый взгляд. Что, если она всё-таки просто влюблена в Этьенна и ревнует его к сестре? Ведь именно это ему и показалось, когда он увидел её, наблюдающей за игроками в серсо. Не этим ли объясняются её резкие слова на его счёт?
Ему стало тоскливо.
Клермон снова вспомнил графа. Вздохнул. На сердце стало ещё тяжелее. Мир действительно разваливается, Фонтейн прав. В нём иссякла любовь. Он потерял смысл. Арман замёрз, был подавлен, время приближалось к полуночи, но спать ему не хотелось. Привычной уже дорогой Арман направился в библиотеку. Дверь бесшумно отворилась, он прошёл по ковровой дорожке мимо стеллажей и, повернув к камину, остановился в изумлении.
На оттоманке в брюках и белой шелковой рубашке, расстегнутой до пояса, сидел Этьенн. На столике перед ним стояли свеча, бутылка коньяка Delamain и бокал. Если бутылка была непочатой и он сам открыл её, то, судя по уровню спиртного, его сиятельство должен быть пьян до положения риз, подумал Клермон.
На лице Этьенна отсутствовала всегдашняя умиротворенная улыбка, глаза налились кровью, черты обострились. Он уставился в камин, где дотлевали обугленные головешки, временами запрокидывал голову назад и словно засыпал. Клермон молча смотрел на него, и решил, что утром, на свежую голову, обдумает, как лучше свести на нет отношения с этим человеком. Арман не остановился бы перед тем, чтобы просто рассказать Этьенну обо всём и попросить впредь не затруднять себя общением и не числить его среди своих знакомых, но сейчас, в том состоянии, в котором находился его сиятельство, любые объяснения были бессмысленны. Тем временем Этьенн неожиданно заметил его присутствие. Несколько мгновений глаза его фокусировались на фигуре Клермона, потом лицо Виларсо де Торана исказила гримаса, принять которую за улыбку было трудно.
— Почему вы не спите, Клермон? Ночь… — Он снова отвернулся к огню, — надо спать. — Его сиятельство с трудом выговаривал слова.
Арман собирался и вправду уйти, но неожиданно услышал слова, заставившие его остановиться.
— Знаете, я думал о том, что вы сказали. Приобщение к святости… Девственность… — Он снова поднял на Клермона тяжелый взгляд пьяных глаз. — Сядьте. Я расскажу вам. Я расскажу вам… почему я вспомнил об этом? — он, опустив голову, уставился в пол, и его волосы на мгновение закрыли лицо. — В конюшне моего дяди был жеребец — Фараон. Вороной красавец, безумный и бешеный. Мне было двенадцать с небольшим, но дядя разрешал мне садиться в седло, а к тому же пообещал, что через год подарит мне Фараона. Я помню тот день… Я гонял по склонам, то и дело подымая коня на дыбы — просто от восторга, переполнявшего меня… Деревья проносились мимо, в небе скакало солнце. Я был разгорячён, вспотел и, передав Фараона конюху, пошёл к себе. Меня ждала ванна, и некоторое время после я просто лежал, отдавшись усталой истоме…
Клермон против воли внимательно слушал, несмотря на отвращение, которое испытывал к этому человеку после подслушанного разговора с его сестрой. Что-то мешало ему уйти.
— …Мне хотелось спать. Просто спать. — Граф умолк и напрягшись, снова наполнил бокал. — Она появилась из-за прикроватного полога… — Этьенн надолго замолчал.
— Ещё один суккуб?
— Ха-ха, — Этьенн невесело рассмеялся, — если бы… Гувернантка моей сестры. Я… я смутился. Да. Я смутился, ощутил неловкость, попытался прикрыться. Она присела рядом… Я онемел и сжался. Я, кажется, был тогда… как это? Застенчив? Признаки проступавшей во мне мужественности тревожили и пугали меня, но то, что сделала она… Как вы сказали? «Душа ощущает неладное, точно переступаешь через запретную черту…» Да, казалось, она колдует. После я был на черной мессе. Похоже. Она творила непотребное, я понимал, но… Я до глубины прочувствовал упоительную мерзость наслаждения. Катрин была, как я понимаю теперь, воплощением распутства… Через неделю я знал женщину как свои ладони. Тайн больше не было.
Клермону стало неловко. Граф был пьян — и завтра он пожалеет о своей пьяной откровенности, но Арман не мог прервать его, — губы не слушались, язык прилип к гортани. Этьенн не лгал — это было бесспорным, как темнота за окном.
— Но, знаете, я утратил… нет, не то. Я больше ничего не стыдился и не мог радоваться. Дядя Франсуа подарил мне Фараона. Но он был мне не нужен. Я не обрадовался. Да, я перестал радоваться.
Этьенн почти опрокинул в себя бокал.
— Потом… моё образование довершил в Париже мсье Жером Шаванель… Теперь женщиной делали меня, и я входил в мужчин как в женщин. Потом путти, тутти-фрутти… Изыски и утончённости.
Теперь Клермон и не помышлял о том, чтобы оставить графа.