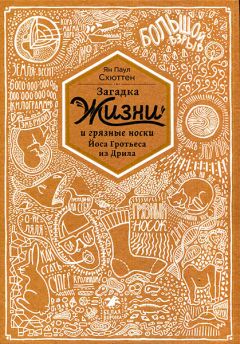Ангелотворец - Харкуэй Ник
Не «секретарша», замечает Эди, уезжая из интерната на правительственной машине и оставляя позади свою прежнюю жизнь. Не «любовница» или завуалированная «компаньонка», не «домработница» и не «кухарка». Младший директор – то есть, человек, наделенный властью и полномочиями. С Амандой Бейнс придется считаться. Когда Эди называет ее «мисс Бейнс», у той вырывается утробный хохоток; вертя могучими руками рулевое колесо, она отвечает, что вообще-то она «капитан Бейнс», если уж на то пошло, но Эди пусть называет ее Амандой.
Капитан – как на корабле?
Да. Капитан славного судна «Купара».
Это большое судно?
Исследовательское.
А какое именно? Что исследует?
Аманда Бейнс достает тонкую трубку из белой глины и позволяет Абелю Джасмину ее раскурить.
– Рескианское, – отвечает она, пристально глядя на Эди сквозь дым серыми глазами.
Эди прежде не слышала о таких кораблях, однако признаваться в этом не намерена. В прохладных классах школы леди Грейвли она читала труд одного искусствоведа Джона Рескина, предпочитавшего называть себя по-гречески Kata Phusin («по природе»). Рескин так горячо презирал все проявления промышленного строительства, что однажды описал здание школы леди Грейвли как «убогое сердцем, лишенное души и непригодное для своих целей; архитектурный чирей на шропширских землях». Собственно, с этой оценкой Эди может только согласиться. Она воочию представляет, как Рескин стоял, печально прислонясь к дубу у начала длинной подъездной аллеи, и строчил у себя в блокноте: «Школа леди Грейвли, Шроп. Чудовищное убожество. Написать в „Таймс“. Не жалеть желчи».
Хо-хо. Рескин выступал против стандартизации. Он хотел, чтобы каждая составляющая здания была порождением уникальной человеческой души и обращалась прямиком к Богу (к кому же еще). Так-то.
– Уникальное судно.
– Да.
– Особенное.
– Нам нравится так думать.
– Судно в стиле… викторианской готики?
Аманда Бейнс фыркает – не то одобрительно, не то презрительно – и больше ничего не говорит, потому что они подъезжают к Паддингтонскому вокзалу, и сквозь сумерки и дым Эди видит поезд.
Конечно, в 1939 году от рождества Христова многие состоятельные люди могли позволить себе персональный вагон, который цеплялся к обычному локомотиву в целях отделить его разборчивых пассажиров – id est [13] богатых и могущественных, чья разборчивость ограничивалась желанием убедиться в собственной важности, – от простых смертных. Воспитанницы школы леди Грейвли порой упоенно перешептывались о вагонах Ротшильдов, Кеннеди, Спенсеров и Асторов, видя в них символ grande luxe жизни и цель, к которой не зазорно стремиться всякой уважающей себя девушке, наделенной характером, обаянием и шиком. Но Эди никогда не слышала, чтобы у кого-то был личный поезд с собственным локомотивом – окованной латунью махиной вдвое выше человеческого роста с декоративными элементами из чугуна. И уж точно ни у кого нет поезда, столь нарочито военного, созданного для войны, похожего на крепость, с бронированной кабиной машиниста и собственным тараном. И…
– Пар?.. – бормочет Эди.
– Ха! – восклицает Абель Джасмин. – Я знал, что вам понравится. Эта машина мчит со скоростью больше ста миль в час и при этом не издает почти ни звука. Разумеется, охотно сжирает все, что бросишь ей в топку, поэтому не так истощает природные ресурсы, как, например, тепловозы.
– Зато она уязвима, – вставляет Эди, не в силах ничего с собой поделать. – Одно попадание в паровой котел и…
Она умолкает. Именно из-за подобного рода комментариев мисс Томас называла ее пропащим ребенком.
– Вы совершенно правы, мисс Банистер! – восторженно заявляет Абель Джасмин. – Поэтому котел находится в самом сердце машины, а сам цилиндр защищен крепчайшей броней. Однако вы правильно определили наше больное место. Так держать! «Ада Лавлейс» – компромисс между незаметностью, мощью, универсальностью и безопасностью. Она не совершенна ни в одном из своих проявлений, однако прекрасно показала себя во всех.
Аманда Бейнс (капитан собственного судна, на минуточку) бросает Эди насмешливый взгляд, как бы говоря: «Ох уж эти мальчики и их игрушки!», но Эди восхищена – даже не самой машиной, а образом жизни, который та сулит. Собственный поезд означает, что можно не думать о графиках и расписаниях, не опасаться задержек. Абель Джасмин сам может устраивать задержки, реорганизовывая движение скоростного общественного транспорта в угоду собственным интересам и нуждам.
– Потрясающе, – выдыхает она, и Абель Джасмин гордо кивает: да, в самом деле, очень недурно.
– Поезд тоже рескианский? – спрашивает Эди, помедлив.
Абель устремляет очень пытливый взгляд сперва на нее, затем на Аманду Бейнс, которая по-собачьи лыбится, не выпуская изо рта курительной трубки.
– О да, – наконец отвечает Абель Джасмин. – Несомненно. Впрочем, теперь это прошлый век – успел устареть, пока мы его строили. Такова скорость прогресса… Что ж! – Он поворачивается к суровому усатому машинисту в синем. – Едемте, мистер Криспин! Пора в путь.
Внутри поезд выглядит не менее диковинно. Эди разглядывает струящиеся поверхности из дерева и латуни, отделанные бирюзой и золотом, как в соборе, и окна из некоего материала вроде смолы или бакелита, только прочнее. Она подходит к открытой винтовой лестнице, ведущей на второй этаж, и долго смотрит на проносящуюся за окном ночь. Впервые в жизни Эди чувствует себя свободной. Она прижимается лбом к не-стеклу и широко улыбается.
– Голубой цвет Божество навеки наделило свойством вызывать восторг. [14]
Эди оборачивается. В дальнем конце вагона стоит широкоплечий, седовласый человек в комбинезоне. Лет шестидесяти, но сразу видно, что очень сильный.
– Я про поезд, – добавляет он.
Эди всматривается в его лицо, ища признаки снисходительности. Нет, ничего подобного. Когда мужчина поворачивается, она замечает монашескую тонзуру у него на макушке.
– Он потрясающий, – говорит Эди.
– Называется «Ада Лавлейс». Знаете, кто это?
– Дочь лорда Байрона.
– О, не только! Она была гением. Провидцем. Мы назвали поезд в ее честь.
– Уверена, она бы оценила.
– Возможно. Довольно того, что мы о ней помним. Я – Хранитель, – продолжает незнакомец, а потом добавляет, увидев, что Эди приоткрыла рот, размышляя, как бы повежливей спросить: – Ордена Джона-Творца. – Не дождавшись кивка, он поясняет: – Рескианский орден.
Эди вспоминает прилагательное «рескианский», которое ничуть ее не смутило. Рескианское изделие – это наверняка что-то затейливое, выполненное вручную, сложное, вдохновенное. Созданное с уважением к гуманистическим принципам. Призванное искать и находить божественное в повседневном. Подобные качества могут заслуживать похвалы, когда они присущи, допустим, чайному сервизу или даже исполинскому секретному локомотиву.
А вот существительное «рескианец» – уже совсем другая песня, от которой Эди немного не по себе. Это, должно быть, какие-то странные христиане, превозносящие ручной труд и стремящиеся познать естество мироздания.
Хранитель улыбается.
– В чем дело? – вопрошает Эди Банистер.
– Вы пытаетесь понять, инженер я или сектант.
– Пожалуй.
– Прекрасно, мисс Банистер. Очень похвально. Идемте, я вам все тут покажу. Допрос учините по дороге.
И тут – к ее изумлению – он любезно протягивает ей руку, как какой-нибудь барон – герцогине.
«Ада Лавлейс» состоит из одиннадцати вагонов: спальных, кухни, уборных и двух отсеков со странными устройствами из стекла и металла, о которых Хранитель ничего ей не рассказал, но которые с виду похожи на помесь франкировальной машины, музыкальной шкатулки и счетной доски. Из этого следует, что устройство, вероятно, имеет некое отношение к числам, вычислениям и, возможно, к шифрованию.
Есть в поезде собственный радиопередатчик, лаборатория и пара конторских помещений, личное купе Абеля Джасмина и дверь, за которой скрывается двигатель. От путеочистителя впереди, отлитого на заказ в Падуе (и созданного по чертежам некоего Бэббиджа, друга самой Лавлейс, переосмысленным рескианцами), до витой решетки в конце последнего вагона, во всем поезде нет ни единой детали, которая не была бы сделана и не обслуживалась бы вручную.