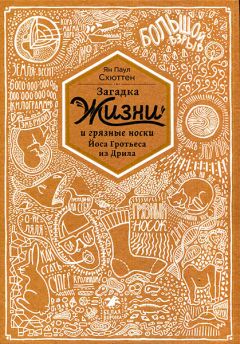Ангелотворец - Харкуэй Ник
Может, весь этот бардак – не следы грабежа, а знак готовности Билли что-то изменить в своей жизни. Устроить тарарам. Умерить болезненный перфекционизм. Вывалить все наружу.
А это что за пятнышко на рамке с фотографией? Джем, наверное. Ну, точно. Билли сидел за столом, ел джем (на тосте из зернового хлеба, с толстенным слоем масла) и осознавал бессмысленность своего разгульно-городского образа жизни. Закинув в рот последний кусок тоста с «Восхитительным клубничным джемом миссис Харрингтон», смахнул крошки и во имя любви навеки отдал жизнь во власть беспорядка. Браво!
Джем ничем не пахнет. Джо принюхивается. Нет. Очень странно. Никакого запаха. Под ногами хрустит. Опять гравий? Да, и что-то еще… что-то белое и бугристое. Попкорн?! Джо осторожно наступает на предмет – нет, не попкорн. Что-то твердое. Пластиковый дюбель, крючок для картины, скоба… Джо нагибается.
Зуб.
Он подбирает его с пола. Влажный. Холодный. Зуб. Он вертит его в руке. Зуб с легким никотиновым налетом, хорошо отполирован. Билли привык заботиться о зубах. Джо недоуменно разглядывает находку. С чего вдруг у здорового человека может выпасть зуб?
Тут в нос ударяет запах: он будто до сих пор таился где-то в углу комнаты и решил напасть, заполнить разом нос и рот. Резкий, металлический, гадкий и тошнотворный. Зуб. О черт. Черт, о черт. Комната куда-то уплывает, прыгает вверх-вниз, а в ушах стоит чудовищный грохот, словно усиленные стократ радиопомехи между станциями. Джо приваливается к столу, потом хочет сесть на кровать и за миг до этого сознает, что вот он, источник всего, страшное бесформенное тело под простыней, на которое он почему-то не обращал внимания до сих пор: огромная мертвая кабанья туша, только это вовсе не кабан, а одинокий лысый распутник с монашеским сердцем, и кто-то учинил над ним расправу, ужасную, кровавую, залив ковер и забрызгав стены в темном укромном углу над кроватью.
Под простыней лежит Билли Френд, убитый самым чудовищным, самым изуверским, самым преднамеренным образом, и Джо сознает, что ему теперь с этим жить. Жить в новом, очень беспощадном мире.
Билли умирал, глядя на портрет Джойс. Непонятно, чего в этом было больше, милосердия или жестокости.
Джо содрогается.
Билли Френд мертв.
V
Главная особенность стрельбы по людям, вспоминает теперь Эди Банистер, заключается в том, что одной жертвой ограничиться крайне непросто. Застрелив своего несостоявшегося убийцу и находясь, что называется, в бегах, она должна каким-то образом вернуться в прежнее, уравновешенное «я» и не пытаться грохнуть каждого встречного. Уже дважды ей пришлось сделать себе весьма строгий выговор, когда она едва не прикончила двух неприятных пешеходов и одного водителя-тугодума. Зато какая она молодец, что сумела не изрешетить мистера Хенли, дворника, которому приспичило вырасти за ее спиной ровно в тот миг, когда она спешно покидала здание, да еще пожелать ей доброго утра! И поистине образцовую выдержку она проявила, не пустив пулю в затылок вышедшей на прогулку миссис Крабб (которую она всегда недолюбливала).
Сосредоточься, корова ты старая!
Сумка с пистолетом оттягивает плечо. Эди по привычке его перезарядила. Конечно, вряд ли на нее нападут прямо на улице; весь этот околомистический треп про то, что всегда следует готовиться к самому неожиданному развитию событий, яйца выеденного не стоит. Пока ты будешь готовиться к неожиданному, говорил ей в Бурме один угрюмый отставной вояка, ожидаемое выскочит из подворотни и вышибет тебе мозги. Ожидать следует ожидаемого, а об остальном – просто помнить.
В данном случае следует ожидать, что враг пока ничего не подозревает. Враг убежден, что мистер Биглендри раздавил старушонку, как букашку. Головореза не будут искать еще полчаса, а то и целый день (в зависимости от длины привязи, на которой его держат). Итак, первым делом – переодеться.
Она садится в такси и называет водителю некую безвестную улочку в Кэмден-тауне. По дороге рассказывает ему небылицу о правнуках, настолько идиотскую, что самой тошно. Спустя полчаса водитель перестает поглядывать на нее в зеркало, и Эди чувствует, как меркнет, расплывается ее образ в его памяти: неприметная старушка неприметного роста в неприметной одежде. Сущий одуванчик, разве что не в меру болтливая.
Все еще лопоча банальности, Эди расплачивается, затем нащупывает в сумочке старинный пенни образца 1959 года. По тем временам это были неплохие чаевые, а сегодня – просто металлолом. У нее целый клад таких монет. С их помощью очень удобно убеждать окружающих в своей невменяемости.
– Это вам на чай, шофер, благослови вас Господь!
Водитель поспешно забирает монету, глядя куда угодно, только не на нее. Ему хочется одного: забыть, что пришлось иметь с ней дело. Ощупав круглый металлический предмет и почувствовав, что монета не того размера и не того веса, какого должна быть, он невольно замирает на месте. Спустя час, если он и вспомнит о чокнутой старушке, в его мыслях она превратится в амальгаму всех неприятных черт, какими может обладать пассажир.
Вот теперь можно и по магазинам.
Четыре часа спустя, в укромном закутке «Свиньи и поэта» сидит Эди: на голове не один, а сразу три пучка, черная юбка, футболка, купленная у уличного торговца, толстые леггинсы и сапоги. Кэмден-таун ее не обидел. Она выпросила несколько булавок у приличного вида мужчины, который на нее глазел, – хозяина прачечной в конце улицы, – и вот новый грозный образ готов: древняя, выжившая из ума панкушка.
«Свинья и поэт» не бог весть какой паб. Пара столиков да жалкий музыкальный автомат, который сломался задолго до того, как Эди достала из сумочки одну из булавок, нацепила ее на два нижних контакта вилки и воткнула ее обратно в розетку, отчего немедленно произошло короткое замыкание и помещение наполнилось резким запахом паленого пластика. Укромный закуток частично погрузился в темноту, неплохо скрывающую убогость и дешевизну заведения.
Прежний хозяин бара, ирландец, умудрялся вдыхать в него жизнь одним своим присутствием. То был пузатый, бесконечно вульгарный человечек, питавший слабость к дородным женщинам. Он переехал, по-видимому, в Эксетер, и больше его не видели. После его отъезда из заведения понемногу улетучилась вся поэзия, осталось одно свинство. Поэтому комнатушку над баром Эди сдали легко, недорого и без лишних вопросов.
Эди подводит итоги. Согласно давно принятому решению, она никогда не убивает бездумно. Пусть учиненная ею расправа была сколь угодно непредвиденной, ни одна смерть не должна остаться незамеченной, тем более, если к этой смерти приложила руку Эди Банистер. Могущество, происходящее от знания многих способов уничтожения человеческой жизни, – и могущество, обретаемое тобой, когда ты обрываешь чью-то жизнь, – необходимо уравновесить трезвым, почтительным осознанием смысла и последствий содеянного.
Потягивая ром с колой, Эди неспешно размышляет, могла ли она поступить иначе, после чего сознает небессмысленность существования Биглендри et fils [12] и чудовищность своего поступка. Убитые – при всей их отвратительности, злокозненности, продажности, – были людьми, и, стало быть, удивительными, необычайно сложными созданиями. Возможно, они умели по-своему любить. Да, они наемники и неотесанные мужланы – при этом чьи-то отцы и сыновья. Будет ли рыдать, проклиная убийцу, безутешная миссис Биглендри? Конечно, будет. Профессия мужа ничуть не умаляет ее горя и ужаса, как не умаляет осиротелости ее сына и страданий дочери, когда им начнут объяснять, что вообще-то Биглендри получил по заслугам.
Ох, будь я моложе, думает Эди. Или будь у меня союзники. Или имей я возможность все обдумать и спланировать заранее… Она вновь прокручивает в голове случившееся. Убила двоих, одного пощадила. Так себе арифметика – однако могло быть и хуже. А могло быть и лучше, корова ты старая.