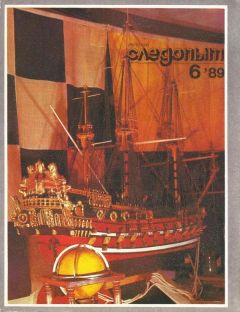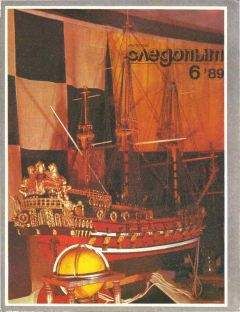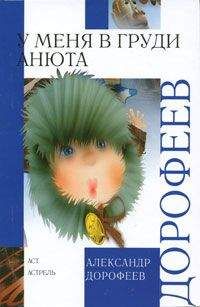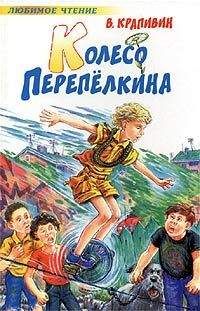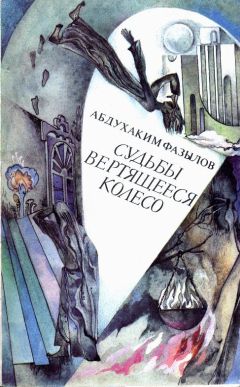Борис Тараканов - Колесо в заброшенном парке
— Не пойму, что со мной, — признался он. — Сегодня был такой день… А ты, оказывается, совсем не тот, каким кажешься на первый взгляд.
Добрыня неопределенно хмыкнул. Бурик смутился.
— Блин, я совсем не то имел в виду… Вот всегда так: хочешь сказать одно, а смысл выходит совсем другой.
— Ничего. Я понял. — Добрыня улыбнулся одними уголками губ и чуть прищурился.
Казалось, можно вечно сидеть рядом на тесном мостике, глядя, как медленно наполняется шлюз, редкими короткими рывками красного поплавка на черной стене выравниваются уровни воды. Бурик подумал, что шлюзы — это, наверное, те же стрелки, только на водных путях. Они тоже совмещают грани разных пространств, или разъединяют их.
Вечерело.
— Тебе дома-то не попадет? — спросил Добрыня.
— А сколько сейчас времени? — заволновался Бурик.
— Много, наверное. Летом поздно темнеет.
— А тебе самому-то как?
— Ну, у меня мама привычная, — сказал Добрыня, однако тоже заспешил.
Шагая за ним, Бурик думал о том, какой получился удивительный день, сколько в него вместилось… Дома, конечно, волнуются — еще бы, обедать не пришел, исчез до позднего вечера, не предупредив… ой, что будет!.. Бурик стал прикидывать, что бы такое сказать, чтоб и не очень соврать. Но сосредоточиться на этом он не смог — отвлекало смутное ощущение, что не все на сегодня закончилось, предчувствие последнего чуда, которое ждетвпереди.
И предчувствие не обмануло.
От шлюза и почти до самого дома, рядом с обычной железной дорогой, по которой ходили электрички и поезда, тянулись покрытые ржавчиной рельсы старого заброшенного пути. Бурик любил по нему ходить, любил сухую колючую траву и маленькие деревца, пробивающиеся между почерневших деревянных шпал. Сейчас ребята, не сговариваясь, выбрали именно этот путь. Заканчивался он глухим забором заброшенного завода. Из-за него, однако, выглядывал ненужный покосившийся семафор, который иногда подмигивал — очевидно, его забыли отключить от электросети. Семафор этот особенно нравился Бурику.
— Смотри, — смущаясь, сказал Бурик. — Мне кажется, семафорик нас куда-то приглашает.
— Точно! — согласился Добрыня. — Или что-то хочет подсказать… Только это не семафор, а светофор.
Бурик не стал спорить.
Трава под ногами сделалась более редкой и мягкой, как на лесной опушке. Первую ягодку земляники нашел Добрыня, потом Бурик, потом опять Бурик, они уже не успевали наклоняться за ними, а присев, Бурик воскликнул:
— Добрыня, да тут целые россыпи земляники!
Все шпалы были усеяны ягодой, отовсюду выглядывали их красные глазенки — набирай и горстями отправляй в рот.
Это в самом деле было чудо: в двух метрах от станции «Покровское-Стрешнево» совершенно нетронутое место, как на лесной поляне… А на платформе-то, должно быть, удивляются — чего это мальчишки ползают на заброшенном пути? Хотя, скорее всего, люди со станции их даже не заметили.
Справа от рельсов в разросшихся кустах прятался синий карликовый светофор с надтреснутой линзой — словно в темно-зеленых кустах запуталась упавшая звезда.
— Надо же, — сказал Добрыня, раздвигая заросли и присаживаясь перед светофором, как перед малышом. — Путь давно заброшен, а он все светит…
— Будто гном из травы с фонарем, — добавил Бурик. — Правда, похоже?
— Ага. Или маяк. Или будто звезда…
«Какой длинный получился день! — думал Бурик. — Такой бывает только перед Новым годом. Но тогда он длинный потому, что весь день ждешь, а сегодня мы ничего не ждали, все само происходило… как и говорил Добрыня — само собой и вовремя. Словно что-то помогало…»
День действительно получился длинный. И как мало встречалось людей — словно они сговорились не мешать им сегодня. А Время и Реальность проплывали где-то рядом, не касаясь мальчишек.
Венеция, 1716 год
Антонио встал к пульту, пробежал взглядом по лицам музыкантов и хористов. Через мгновение огромный романский собор с его напыщенной гармонией золота и разноцветного мрамора наполнился светлыми звуками скрипок. Звуки возносились под купол, устремлялись в полумрак нефов, многочисленных часовен и, казалось, начинали там жить своей жизнью. Вступил хор: «Ky-yrie ele-e-ison…»[4], — сдержанно раздалось под сводами. Наслаждение и волнение, которые испытывал Антонио, дирижируя прекрасной музыкой Карло Тортора, передались и молящимся, заполнившим ряды деревянных скамеек с затейливой резьбой, и самим исполнителям. Хористы и оркестранты с нежностью глядели на маленького дирижера. У Маурицио, отца Антонио, восседавшего в оркестре со скрипкой в руках, в глазах стояли слезы. Такие же слезы утирал Карло, сидевший во втором ряду. «Этого мальчика ждет большая дорога…» — думал старый музыкант, вслушиваясь в звуки собственного сочинения.
Ни на секунду Карло не ослаблял внимания к хору и оркестру. Он словно подключился к нервам Антонио и волновался так, будто сам впервые вышел к дирижерском пульту. Ведь стоит чуть зазеваться, растеряться или, напротив, расслабиться, благодушно удовлетворившись полученным эффектом, как все тут же рассыплется, словно карточный домик.
«Вот сейчас будет очень ответственное место: после общей ликующей кульминации — генеральная пауза, и в тишине вступает на нежнейшем пианиссимо хор, поддерживаемый только деревянными духовыми… Ну же, Антонио, сыночек, не подведи старика!..»
Антонио прекрасно показал крещендо от меццо-пьяно к фортиссимо[5], как птица, свободно и широко отмахал последние четыре четверти, купаясь в звучании голосов и инструментов, сделал глубокий замах и снял на первую долю. Своды собора эхом вернули звук, который в ответ словно подтолкнул мальчика в спину. Наступила такая абсолютная, звенящая тишина, что Карло показалось: он слышит, как у Антонио в сердце стучит: «три-четыре»…
Антонио плавно взмахнул, показывая дыхание хору, и как будто сам взлетел, легонько оттолкнувшись руками от воздуха. «Et in terra pax…»[6], — удивительно мягко и чисто вступил хор.
«Нет, смертные так не поют. Это песнь ангелов в Раю. Неужели это я написал?.. Ай да Карло, ай да… гхм… Эх, старик, не ври сам себе. Твое время прошло. Да, это лучшая твоя месса, но все же она далека от совершенства. Ты прекрасно знаешь это — какой из тебя гений… Этот мальчик, стоящий сейчас за пультом, — это он вдыхает в нее новую жизнь, наполняет молодой кровью сухие вены…»
«И все же я прожил не зря. Теперь можно помирать спокойно — я видел, кто придет мне на смену. Он достоин того, чтобы принять дело жизни из рук моих, и он во сто крат меня превзойдет. Его имя будет звучать спустя много веков, после того как мое забудут…»