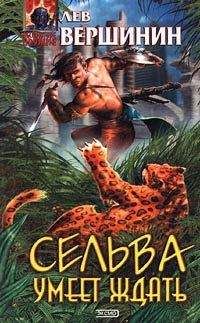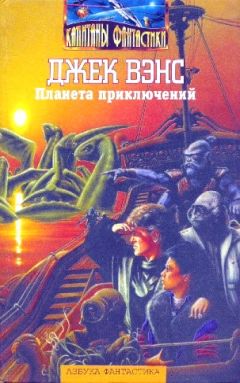Лев Вершинин - Сельва не любит чужих
Тяжелой ладонью потрепал старый Мамалыга черный хохолок на затылке Следопыта, намотал на палец и дернул, без лишних слов приказывая встать. И обернулся к другому победителю, почти не сомневаясь, какой будет просьба.
Для того чтобы получить самое желанное, не было Пахе нужды рвать жилы, заваливая оола. Оно, самое-самое, и так было уже у него в руках…
Так подумал старый Тарас. Но, как ни странно, ошибся.
Речь парубка была вовсе не об Оксане.
— Ты среди вуйков старшой, отче, — глядя исподлобья, сказал молодой Збырь. — Как ты скажешь, так и будет. Позволь же мне ныне уйти из рода Збырей!
Бородачи приумолкли, прислушиваясь. Тарас приподнял бровь.
— В какой же род хочешь уйти, сыне?
Он по-прежнему полагал, что дело в Оксане, и ждал ответа, уже прикидывая, какую виру придется платить Збырям за увод столь доброго парубка.
И вновь не угадал.
— А ни в какой, — еще больше наоолился Паха. — Сам желаю быть Предком!
Унсы зароптали.
Такое дозволялось обычаями, но не случалось, почитай, никогда. По доброй воле уйти из рода, отказаться от заступы его и поддержки и ни к какому иному роду не примкнуть — слыханное ли дело? Единожды лишь и было такое в краю унсов, три поколения назад, когда от Чумаков отделились Ищенки, но их-то было трое братьев, а Паха, как ни кинь, один, ровно перст…
— Так дозволишь ли? — настаивал Паха. — Иль нет?
— Ежели обещано, то как не дозволить? — развел руками Тарас. — А хорошо ль подумал?
— Да уж подумал, — буркнул Паха, супясь.
— А вдруг пропадешь?
— А вот не пропаду! — запальчиво выкрикнул парубок, мотнув головою в направлении поверженного буки.
— Что ж, так тому и быть…
Вуйк Мамалыг воздел длани над склонившимся Па-хою и резко развел их в стороны, как бы обрывая нити, связывающие молодого унса с родом Збырей.
Хмыкнул в бороду.
— Как пожелал, так и сделался. Со старейшими рода сам все улажу. У тебя ж от сего дня нет Предков, и сам ты единственный Пращур потомству своему. Женку присмотрел ли?
— Эге ж…
Оттопыренные уши парубка заалели, и ясно сделалось Тарасу, что не так уж он ошибался.
— Добре. О том позже. А как род назвать хочешь?
— Га? — похоже, об этом, столь простом, но важнейшем, парубок еще и не задумывался. — Э-э… А что?! Батька Василем звали. Вот по батьку и назовусь!
Он упер руки в боки, задрал лицо к солнцу и громко, явственно наслаждаясь звучанием впервые произносимого, сообщил высокой Выси:
— Я — Паха Василюк. Но тут же поправил себя:
— Я — Павло Василюк, вуйк рода Василюков.
— Слава! Слава! Слава! — прокричали унсы.
Никто из них не ждал в первый день месяца березня воочию увидать такое, о чем в будущие времена станут спивать думы седые дидуси-бандуристы.
— Слава роду Василюков! Смерть ворогам! Кричали все.
Лишь старый Тарас не подкрикивал родовичам.
Он думал. О Пахе.
По всему выходило: привалило счастье Оксанке!
Далеко пойдет сей парубок. Всем вышел: и смел, и силен, и умом не обижен. Правду молвить, много ли найдется среди хлопцев таких, что грамоте разумеют? Раз, два, ну три — и обчелся. А Паха, передают, не только читать горазд, а и писать самоучкой выучился. Целых шесть букв! И ныне, где ни побывает, одну из них обязательно напишет. Особенно хороша у Пахи буквица А. Выводит он ее совершенно свободно, почти не думая, хоть пером, хоть прутиком, а хотя бы и пальцем. День ото дня все чище и краше Пахина А, и надо полагать, правы те, кто прочит в грядущие годы Пахе, отныне Василюку, посаду генерального войскового письменника…
Нет, не пропадет за таким хлопцем Оксана!
А ночная зозуля дневную завсегда перекукует, и никуда новый род не денется от рода Мамалыг из Великого Мамалыгина! Отож? Авжеж!
И поднял вуйк Тарас великую чару за новый род и потомство его. И выпили все до дна, дружно сдвинув чары, да так, что ни капельки не пролилось на столы!
И грянул пир, и бушевал пир до вечера.
Когда же солнце из желтого сделалось красным, настал час для действа, лишь единожды в году происходящего, и не во всякое время, а выключно в первый день веселого березня.
Вышла к крыльцу дебелая женка, за красоту и стать выбранная из многих, поклонилась в пояс и позвала певучим голосом:
— Ой, сусиди, сусиди милые! А вышли бы вы к нам, хлебца с солцой откушать, медку испить, себя показать, на нас поглядеть! Рады будем вам, а вороги ваши уж покараны!
Издавна так повелось: в первый весенний день пригласить к трапезе плисюков запечных, позвать с любовью и лаской. А уж выйдут ли, тут раз на раз не приходится; кто их, плисюков норовистых, поймет?..
Сперва тихо было. Вроде и не откликнулся никто.
А потом запели вдруг серебряные дудочки и полезли на свет из щелей человечки в палец ростом. Все, как один, важные, надутые, все в бархатных кургузых сюртучках, при галстучках-мотыльках, при люлечках, а на хлипких ножках — красно-белые чулочки да деревянные башмаки без задников.
Вылезли, в рядок построились и пошли, пританцовывая, к заранее заготовленному крохе-столику…
Хороша примета! Удачней удачного будет год, коль плисюки на зов пошли!
Покричали унсы, поздравствовали сусидей. И перестали замечать. Эко диво: плисюки! Кто ж их не видывал?!
Горные, те б, наверное, поудивлялись. Но спали уже вповалку некрепкие на самогонку люди дгаа, кто — уронив на стол голову, кто — и вовсе под стол уйдя, словно и не было.
Некому было дивиться плисюкам. Кроме Дмитрия.
— О! К-корот-тышки явились! — обрадованно сообщил пирующим дгаангуаби, вычесывая из спутавшейся бородки хлебные крошки. — К-как в Цв-веточном городе! Гы-гы!
И тихо сделалось за столом.
И содрогнулся в ужасе вуйк Тарас, старейший из Мамалыг.
Не ждал он такого. И не мог ждать.
Каждому унсу ведомы деяния Незнающего, но лишь со слов старейших. Ибо не всякому дозволено читать Книгу; высокий смысл ее способен смутить незрелые умы, а потому рядовым родовичам достаточно знать то, что определят необходимым для знания вуйки родов.
Кто же он, этот светлобородый ватажок горных дикарей, бестрепетно произносящий запретнейшие из словес?!
И вопросил Тарас:
— Кто ты, пане провиднык? И ответствовал Дмитрий:
— Я? Не знаю…
Замерли унсы, прислушиваясь к беседе. Одни бледнели, другие краснели, и мед стекал на столы по мокрым усам, не попадая в рот. При последних же словах, сказанных гостем, теснее прижались друг к дружке бородачи и, словно по команде, закрыли лица ладонями.
— Ты человек? — напрямик спросил Тарас. И ответствовал Дмитрий:
— Я? Не знаю…
Нет, не стоило, положительно не стоило дгаангуаби Коршанскому пить залпом, без закуси, седьмую чарку. И уж вовсе лишней была одиннадцатая. Что уж говорить о тринадцатой?
До крови закусив губу, вуйк собрался с силами.
И отважился:
— Ты — Незнающий?
В голове звенел Бухенвальдский набат, и каждый вопрос отзывался в висках медным стоном.
— Я не знаю, — пронзительно-откровенно отозвался Дмитрий. — Я ни-че-го не зна-ю…
Очи вуйка Мамалыг сузились в незаметные щелки.
— Скажи, провиднык: через кого перепрыгнул Знающий, когда шел гулять к берегам реки?
Дмитрий хихикнул.
Он снова чувствовал себя пятилетним. У него была ангина, он звал маму, но мама не приходила, зато Дед сидел у постели и тормошил его, и загадывал загадки…
Ох, как приятно было их отгадывать!
— Через овечку! — сообщил Дмитрий, хихикнув. — Вот!
Сивая борода пошла волнами.
— Скажи, провиднык: что хранит в постели своей Авос-богатырь?
Нет, ну ничем, совсем ничем этот расплывающийся, раздваивающийся старик не отличался от Деда!
Странно! Неужели все дедки любят задавать такие дурацкие вопросы?
— Ватрушку! — выкрикнул Дмитрий. — А?!
Собственно, можно было не продолжать. Светлобородый ватажок горцев знал все, что надлежит знать Незнающему, и не знал всего остального. Опытный и мудрый, Тарас уже сознавал: лишь два объяснения есть происходящему. Либо Дмитро читал Книгу, либо он и есть Незнающий. Из двух возможностей, как известно, надлежит выбрать вероятнейшую…
И Тарас выбрал.
Поскольку Книга одна и другой подобной нет и он, вуйк Мамалыг, точно знает, что Дмитро не мог взять ее для прочета, значит, он — Незнающий, и никто иной. А в том, что он на прямой вопрос ответил «Не знаю», то разве не так и должно отвечать истинному Незнающему?
И все же еще один вопрос вуйк не мог не задать.
— Скажи, провиднык: чем утолил голод Торопливый? А Дмитрий тотчас откликнулся:
— Утюгом!
— Но что есть утюг? — настаивал вуйк.
Дмитрий задумался. Он честно пытался сообразить. Но не смог. И смущенно признался:
— Не знаю…
Какие еще тут нужны были доказательства?
Один за другим поднимались унсы, и в очах их быстро истаивали остатки хмельной одури. Кривые сабли, прямые кончары и палаши, пистоли и прочая зброя, гремя, звеня и стуча, летела к ногам светловолосого ватажка горных.