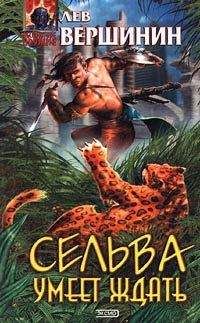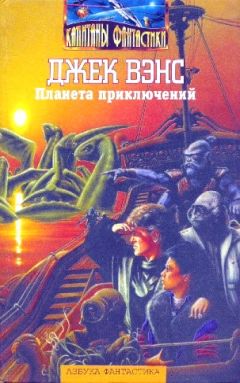Лев Вершинин - Сельва не любит чужих
Только здесь, в Великом Мамалыгине, под твердой рукой вуйка Тараса, полномочный представитель планетарного избиркома сумел найти приют и хоть какое-то утешение.
Его подлечили, подкормили и, подчиняясь строгому указанию старейшего, не чинили обид. Только резвая детвора в первые дни бегала по пятам, швыряясь тухлыми яйцами, но на то она и детвора. Взрослые орали на огольцов и разгоняли их оплеухами. Однако слушать речи отказывались наотрез.
Агитатор давно смирился с карами, ожидающими его по возвращении в Козу. Собственно, уже выезжая оттуда, он понимал: наилучшим итогом командировки для него, провалившего сбор подписей в редколесье, станет выговор с занесением, а следовательно, и серьезное понижение пенсии.
В том, что сбор подписей будет провален, ни он, ни коллеги, вместе с ним тянувшие жребий, не сомневались ни секунды. И, в конце концов, никто не виноват, что короткую лучинку вытянул именно он. Раз в четыре года такое может произойти с любым из канцелярской братии. Как бы то ни было, но командировка подошла к концу, а он все еще был жив. И это не могло не обнадеживать. Четыре года назад жуткие слухи об агитаторе, подвешенном за ноги на бумиане, заставили трястись весь аппарат Администрации.
Сейчас полномочный посланник хотел одного: убраться отсюда, да поскорее. И ничего больше. Ведь он всего лишь клерк. Не в его силах остановить прокладку железной дороги. И отменить приказ о депортации колонистов с Валькирии он, при всем желании, тоже не правомочен. Слава Богу, что Тарас Орестович, человек мудрый и здравомыслящий, это понимает и дал обещание, что его, агитатора избиркома, бить в краю унсов больше не будут…
— Ну что ж, братие, — помягчев лицом, воскликнул Тарас. — Делу время, потехе минутка. Веселите свои сердца, пока весело, и не думайте о плохом, пока хорошо!
Застучали чары. Заклубился духовитый пар от борща, разливаемого по мискам. Захрустели копченые ребрышки в крепких челюстях.
Только гости с гор сидели нахохлясь, не спеша приниматься за еду. Так не ведут себя за дружеским столом. Но Тарас не обижался. Он понимал: непривычно диким пировать рядом с теми, с кем вчера еще бились на меже. Провиднык-то ихний весел, по всему видно: немало по свету побродил, всяких обычаев насмотрелся. А хлопцы его ничего ведь толком и не видели. А все ж нехорошо, когда за славной трапезой кто-то сидит невесел. Никак нельзя такое терпеть.
Отложив ложку, вуйк похлопал ладонью о ладонь, призывая к молчанию. Дождавшись тишины, отстегнул от пояса и уложил перед собою поперек стола карабельку в богато украшенных речными каменьями ножнах.
—Эй, слушайте все! Вот мы, унсы, а вот — дорогие наши гости с высоких гор. Не устроить ли соревнованье? Кто победит, тому отдам свою карабельку, со всей удачей ее!
От едока к едоку побежал вдоль стола удивленный гул. Эх, велика награда! Наследная сабля, это ж не что-нибудь, а о-го-го! Все Мамалыги, державшие ее допрежь, встанут рядом, когда придет час обнажить светлый клинок. А род Мамалыг славен великим таланом, и мало кому из ворогов удавалось пустить юшку кому-то из тех, Кто держал в руке лежащую ныне перед Тарасом сабельку-карабельку.
— А коли все згодны, — возгласил старый унс, — так пускай сперва гости похвалятся, на что способны. По достоинству и честь!
Разбежались по сторонам суматошливые дивчины, разносящие яства и пития, а спустя мгновение-другое, переглянувшись с Дмитром-ватажком и получив безмолвное дозволение, на середину опустевшего подворья вышел худощавый, пожалуй, даже щупловатый юноша-горец, чье лицо, вдоль и поперек изрезанное ритуальными насечками, одновременно отталкивало и притягивало любопытные взгляды.
Светло-коричневое лицо М'куто-Следопыта сейчас казалось темней, чем обычно; оно было почти черным, и на низком лбу блестели крупные капли пота. Правая рука воина дгаа чуть касалась широкого боевого пояса, из-под которого торчали тонкие рукоятки пья'мг'ттаев, метательных ножей, похожих на длинные шильца. Пирующие затаили дыхание.
Некоторое время М'куто внимательно осматривался по сторонам, выбирая цель. Затем глаза его блеснули, а на слегка согнутых ногах отчетливо взбухли сплетения жил.
— Тт'мпи нья, нгуаби? — спросил он равнодушно, даже не поворачиваясь к столу, словно ответ не очень-то его интересовал.
— У'мпи т'Нья, М'куто! — столь же безразлично прозвучал ответ. — Гъё!
За столом было тихо-тихо, словно подворье вовсе опустело.
— Мпи! — взвизгнул М'куто.
В то же мгновенье рука его, лежащая на бляхах пояса, рванулась вверх и вперед. И тут же бессильно опала. А воздух бесшумно прорезала россыпь крохотных молний. Они блеснули на солнце и сухо щелкнули, вонзившись в замшелую стену точно между старейшиной унсов и горским ватажком.
— Тю! — с огромным уважением произнес Тарас, округлившимися глазами разглядывая стену. — О це да так да!
Кургуурра, пятнистый лесной ящер величиной с ладонь, в летнюю пору слегка ядовитый, а в иное время никакого вреда не приносящий, замер на широком бревне, пришпиленный к дереву, и точно посередине каждого из шести оранжевых пятнышек торчала выточенная из невесомой птичьей кости рукоять пья'мг'ттая.
Седьмой нож вошел ящеру тютелька в тютельку в центр мохнатой головы.
Горцы завопили от восторга. Унсы онемели от удивления.
Многие из них и сами неплохо владели большим метательным ножом, валящим человека наповал не хуже, чем пуля из «брандера», но подобного даже старый вуйк, долго живший и немало испытавший, не видел никогда.
— М'куто заслужил длинный нож! — торжественно заявил Убийца Леопардов. — Никому не под силу повторить такое. Нет смысла в состязании!
Следопыт, сверкая зубами и белками глаз, подбоченился и посмотрел налево, где, укрытая в ножнах, дремала острая унсовская сабля, иметь которую считалось высоким почетом среди людей дгаа, потому что ни купить, ни выменять ее не удавалось никому, а. взять в бою было совсем не просто.
— Тихо! — Тарас громко хлопнул ладонью о стол. — И ты, воин, умолкни. Теперь наша очередь удивить гостей…
Поднеся руку к шее, он расслабил туго повязанный платок, освобождая воздуху путь в легкие.
— А сможем ли мы, родичи?
В напряженном молчании тяжко и страшно гудели большие фиолетовые мухи.
Унсы кусали губы, сжимали пудовые кулаки. Они знали: нельзя уступить дикарям. Конечно, состязание друзей — игра. Но не просто. И не только. А в сущности, вовсе даже не игра. Ведь тот, кто одолел, может безнаказанно смотреть сверху вниз на уступившего победу.
Пока бородатые мужи размышляли, прикидывая, на что способны, из-за дальнего конца стола выбрался и приблизился к вуйку невысокий, совсем еще юный парубок.
— Отче Тарас, — громко сказал он, поклонившись до земли старейшему и второй раз, отдельно, гостю. — А вели-ка ты привести буку!
— Буку? — удивился вуйк. — В уме ли ты, хлопче?
Паха из рода Збырей встряхнул кудрями.
— В уме ли, нет ли, а вели все же привести!
— Буку! Буку сюда! — закричали унсы.
Никто уже не помнил о Тарасовой карабельке. Речь ныне шла о более важном, о том, что ценней всего и всего невосстановимее: о чести всего унсовского племени!
Десяток крепышей вскочили со скамеек и, прихватив мотки толстых ремней, побежали прочь с подворья. Через недолгое время за частоколом послышался людской гомон и гулкий, нечеловеческий рев. Все: и хозяева, и гости — повскакивали с мест, опрокидывая миски и чары.
Буку, опутанного с головы до ног, вели полдесятка неслабых парубков, и еще с десяток волочились в пыли, вися на ремнях и весом своим удерживая ревущее чудище. У горцев потемнело в глазах: то был громадный, жуткий, как ухмылка Ваанг-H'rypa, оол-великан. Из багровой пасти зверя истекали громовые раскаты рева, с блестящих черных губ капали хлопья пенистой слюны. Оол упирался, потрясал длинными, загнутыми назад рогами и, вздрагивая, валил с ног державших его плечистых бородачей.
— Не пожалеешь? — одними губами спросил Тарас.
За время, прошедшее с похода, он изрядно привязался к Пахе. А тот, заехав переночевать, так и загостился в поелке Мамалыг и, похоже, не спешил уезжать восвояси. Больно уж присушила хлопца с первого же погляда чорнобривая Оксана, и каждый вечер гуляет он с ней за полночь по бережку Лимпопо, плетя байки да лузгая черные семечки.
Славный хлопчина. Полезный для рода.
Жаль такого, ежели что…
— Не пожалеешь? — тише прежнего повторил вуйк. Паха пожал плечами. Что уж там? Выходя из-за стола, думал об Оксанке, что смотрит на него, Паху. А теперь слова не вернешь, а дела не переиначишь…
— Освободите его от веревок! — приказал парубок. Державшие оола на привязи подчинились тотчас, ибо сейчас этот хлопец был главнее всех на подворье, даже старейшего, и слово его было законом.
Путы опали. Оол-бука, теперь вольный, топтался в середине дворища, злобно раздувая резные ноздри. Копыта его рыли сухую землю, оставляя в звонкой тверди глубокие следы.