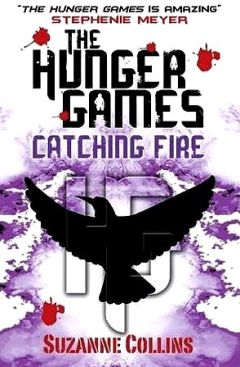Голодные игры: Контракт Уика (СИ) - "Stonegriffin"
Он не знал Прим близко, но знал, что значит защищать тех, кто слабее, знал цену этому выбору. В жесте Китнисс не было героизма в том виде, в каком его любил Капитолий; в нём была простая, почти жестокая необходимость, от которой невозможно отвернуться. Это была не стратегия и не расчёт — это была привязанность, доведённая до предела.
Пит поймал себя на том, что его реакция была сложнее, чем простое сочувствие. Внутри возникло тихое, тяжёлое уважение, смешанное с пониманием того, что именно такие поступки Капитолий любит превращать в зрелище, лишая их первоначального смысла. Он видел, как трагедия одной семьи мгновенно стала частью ритуала, как толпа сначала замерла, а затем подчинилась ходу церемонии, не имея возможности ничего изменить.
И всё же этот момент остался настоящим. Неподдельным. Не отредактированным.
Он помнил Китнисс как тихое, почти незаметное присутствие, которое сопровождало его годами и никогда не требовало подтверждения. Это была память не о событиях, а о деталях: о том, как она держалась чуть в стороне от остальных, как смотрела на мир настороженно, словно всегда ожидала подвоха, как её движения были экономными и точными, без лишних жестов. Для Пита это чувство началось задолго до того, как он сумел бы назвать его словом, и потому не требовало признаний или ответов — оно просто существовало, вплетённое в его повседневность, как привычный маршрут или запах свежего хлеба по утрам.
Его подростковая симпатия к ней была неловкой и тихой, лишённой смелости и притязаний. Он никогда не думал о ней как о ком-то, кому можно подойти и сказать что-то важное; скорее, она была частью мира, за которым он наблюдал издалека, уважая дистанцию так же инстинктивно, как уважал границы леса за ограждением. В его памяти всплывали случайные встречи — мимолётные взгляды на рынке, редкие моменты, когда их пути пересекались в школе или на улицах, и каждый из этих эпизодов был наполнен не действием, а ощущением: чем-то тёплым, но одновременно болезненным, потому что он заранее знал, что это чувство не предназначено для развития.
С тех пор как внутри него поселилась другая память, другая жизнь, это чувство не исчезло. Напротив, оно стало чище, яснее, словно лишилось подростковой растерянности и осталось в своей сути — привязанностью, не требующей обладания. Новые обстоятельства не вытеснили симпатию Пита; они лишь придали ей глубину, позволив взглянуть на неё не как на наивное увлечение, а как на нечто устойчивое, проверенное временем и молчанием. Он понял, что то, что он чувствовал к Китнисс, не было связано с ожиданиями или фантазиями о будущем — это было узнавание, редкое и тихое, которое не нуждается в подтверждении.
Момент, когда она шагнула вперёд, вызвавшись вместо сестры, стал для него не столько потрясением, сколько подтверждением. В этом поступке не было показного героизма, не было стремления к одобрению или зрелищу; в нём была та самая внутренняя необходимость, которую Пит всегда в ней ощущал, но не мог сформулировать. Самопожертвование Китнисс не возвысило её в его глазах — оно лишь сделало видимым то, что всегда было частью её сущности. И именно поэтому это укрепило его чувство, превратив его из тихой подростковой влюблённости в нечто более зрелое, почти спокойное, но оттого не менее сильное.
Эта связь не требовала слов и не нуждалась в обещаниях. Она существовала как внутренняя линия, проходящая через его мысли, не мешая рассуждать трезво и не затуманивая анализ. Пит знал, что впереди его ждёт арена, политика, выживание и необходимость принимать решения без оглядки на эмоции, но он также знал, что именно такие чувства, как это — тихие, устойчивые, не требующие награды, — способны стать не слабостью, а опорой. И в этом мире, где всё стремились превратить в зрелище или инструмент, сама возможность сохранить подобную привязанность казалась актом внутреннего сопротивления.
Он не строил планов и не позволял себе надежд, но память о Китнисс — о той, какой он знал её до Жатвы и какой увидел в момент её выбора — осталась с ним, прочной и неизменной. Это было чувство, которое не исчезало под давлением обстоятельств и не растворялось в новом опыте, а лишь становилось частью того, кем он теперь был.
Где-то на глубинном уровне эта эмоция была узнаваема и для другой части его памяти. Для Джона, который знал, что значит связать свою жизнь с одним-единственным человеком и продолжать идти вперёд, даже когда этот человек остался лишь в воспоминаниях. Для Джона любовь никогда не была серией выборов или сменяющихся привязанностей; она была якорем, точкой отсчёта, ради которой можно было выстоять против всего мира и не усомниться ни на мгновение. В этом смысле чувство Пита к Китнисс не казалось ему наивным или слабым — напротив, оно было удивительно знакомым, почти родственным.
Для Джона это чувство не было новым и не требовало объяснений — оно просто поднималось из глубины памяти, тяжёлое и знакомое, как старая рана, к которой давно перестали прикасаться, но которая никуда не исчезла. После смерти жены он долгое время существовал не как человек, а как инерция, как тело, продолжающее выполнять привычные действия без внутреннего отклика. Его дни складывались из повторяющихся жестов, из тишины дома и звука шагов по пустым комнатам, где каждая деталь напоминала о том, что было потеряно безвозвратно. Он не искал выхода и не пытался заполнить пустоту — он просто позволял времени проходить сквозь себя, не сопротивляясь и не надеясь.
Пёс стал не утешением и не заменой, а обязанностью, и именно в этом заключалась его спасительная роль. Забота о живом существе возвращала Джона к простым, базовым решениям: покормить, вывести, защитить. Ответственность не давала ему окончательно раствориться в апатии, заставляя вставать по утрам и продолжать двигаться, пусть и без цели. В этом была память о жене — не в образах и не в словах, а в действии, в необходимости быть тем, кем она верила, что он может быть. Пока пёс был жив, у Джона оставалась граница, которую он не переходил, внутренний запрет на возвращение к тому, кем он был раньше.
Когда пса убили, эта граница исчезла мгновенно и безвозвратно. Это не было вспышкой ярости в привычном смысле — скорее, тихое и окончательное решение, принятое человеком, у которого больше не осталось ничего, что можно было бы потерять. Те, кто это сделал, были для него безымянными и незначительными, но сам поступок стал спусковым крючком, снявшим последние ограничения. Мир, который он сдерживал внутри себя, вырвался наружу не потому, что он жаждал мести, а потому, что больше не видел причин останавливаться.
Он помнил, как всё началось: возвращение в прошлую жизнь, контакты, которые он надеялся больше никогда не использовать, цепочку насилия, которая разрасталась быстрее, чем он успевал её осмыслить. Каждый шаг втягивал его глубже, и вскоре личная месть превратилась в конфликт с целой системой, с миром, который жил по своим жестоким, но чётко структурированным правилам. Джон шёл вперёд не из ненависти, а из упорства, принимая последствия каждого выбора без иллюзий и оправданий.
Он помнил бегство, преследования, предательства и временные союзы, сотни киллеров и их руководителей, погибших от его руки, помнил, как каждая попытка выйти из игры лишь сильнее связывала его с ней. Высший стол, долги, маркеры, обещания, от которых нельзя отказаться, — всё это складывалось в бесконечную войну, где выживание зависело не только от силы и навыков, но и от понимания того, как устроен сам порядок. Он нарушал правила, потому что не видел в них смысла, но каждый раз за это приходилось платить всё более высокую цену.
Даже когда он попытался вырваться окончательно, ценой собственного статуса и имени, мир не отпустил его. Он стал изгоем, мишенью, легендой, человеком, за голову которого назначили награду, и всё же продолжал идти вперёд, не ради победы и не ради свободы, а потому что движение было единственным способом не остановиться и не позволить прошлому окончательно его раздавить. К концу этого пути он был измотан, изранен и лишён иллюзий, но всё ещё стоял — человек, переживший войну со всем миром и заплативший за неё собственной жизнью.