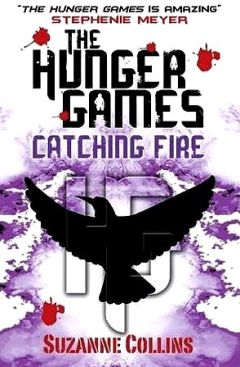Голодные игры: Контракт Уика (СИ) - "Stonegriffin"
На перемене класс снова наполнился шумом. Пит вышел в коридор вместе со всеми, стараясь держаться в стороне. Он остановился у окна, откуда было видно двор школы — неровный, вытоптанный, с несколькими скамейками и кривым флагштоком.
Он заметил, как ученики распределяются по привычным группам. Кто-то сразу идёт к друзьям. Кто-то — к стене, будто пытаясь стать её частью. Кто-то держится особняком, но при этом внимательно следит за всеми.
И где-то там, в поле его зрения, мелькнула знакомая фигура.
Китнисс Эвердин.
Он узнал её не сразу — скорее, почувствовал. Стройная, собранная, с настороженным выражением лица, она шла по коридору так, будто всегда знала, куда идёт. Не спешила, но и не терялась. На неё почти не обращали внимания, и в этом было что-то неправильное: такие люди обычно бросаются в глаза.
Пит не смотрел на неё долго. Он знал — или, точнее, чувствовал через память Пита, — что любое лишнее внимание будет выглядеть странно. Но внутри что-то дрогнуло. Не резко, не болезненно — скорее, как отголосок чужого чувства, которое он пока не мог назвать своим.
Он отвернулся, сделал вид, что разглядывает расписание на стене, и позволил этому ощущению осесть где-то глубже, не мешая работе разума.
Когда прозвенел последний звонок, Пит почувствовал усталость — не физическую, а ментальную. Каждый час, каждое слово, каждый взгляд требовали контроля. Это был день без событий, но именно такие дни изматывают сильнее всего.
Он собрал книги, закрыл шкафчик и вышел из школы вместе с остальными. На улице его снова встретил знакомый воздух Дистрикта 12 — холодный, грязный, но по-своему честный.
Дорога от школы обратно в Швабру всегда ощущалась иначе, чем путь утром. Утром люди ещё держались за рутину, за необходимость встать и идти дальше, а к полудню и ближе к вечеру эта необходимость становилась тяжелее, плотнее, будто её можно было потрогать руками. Воздух прогревался незначительно, но сырость никуда не исчезала — она лишь оседала на коже тонкой плёнкой, смешиваясь с пылью и потом.
Пит вышел за ворота школы вместе с остальными учениками, не спеша, позволяя толпе самой задать темп. Кто-то сразу сворачивал в сторону шахт, кто-то — к рынку, кто-то домой, чтобы успеть помочь семье до темноты. Разговоры были короткими, обрывистыми, часто ни о чём и одновременно обо всём: кто сколько получил за смену, у кого сегодня закончился хлеб, кого из знакомых видели возле ограждения.
Пит слушал вполуха, не вмешиваясь, но запоминая. Не слова — интонации. Не темы — реакции. Люди здесь редко говорили прямо, но многое можно было понять по тому, о чём они не говорили.
Он свернул к рынку.
Рынок жил своей собственной жизнью, отличной от школьной суеты и шахтёрского ритма. Здесь не было громких криков, как в столичных торговых кварталах, но каждый звук имел вес: хруст шагов по гравию, звон металлических мисок, тихий торг, который больше походил на обмен одолжениями, чем на покупку.
Прилавки были простыми — доски на бочках, старые ящики, иногда просто расстеленные на земле куски ткани. На них лежало всё, что можно было добыть или вырастить: корнеплоды, вяленая рыба, редкие яблоки, самодельные свечи, куски ткани, пучки трав. Деньги здесь почти не имели значения — куда важнее были уголь, еда, полезные мелочи.
Пит шёл медленно, делая вид, что просто проходит мимо, хотя память подсказывала, что он бывал здесь часто. Взгляд его цеплялся за детали:
— как люди прикрывают товар, если рядом появляются миротворцы;
— как быстро меняются выражения лиц при виде белой формы;
— как некоторые продавцы будто растворяются в толпе, стоит лишь появиться лишнему вниманию.
Он остановился у прилавка с хлебом — не их семейного, а другого, более грубого, тёмного, явно испечённого на скорую руку. Женщина за прилавком взглянула на него с привычным полурассеянным выражением.
— Не берёшь? — спросила она без нажима.
— Сегодня нет, — ответил Пит и тут же отметил, что голос звучит правильно — спокойно, чуть устало, без лишней уверенности.
Она кивнула, не удивившись. Здесь никто не удивлялся отказам.
Он заметил её почти случайно — на границе рынка, у прилавка с дичью. Китнисс стояла чуть в стороне, сосредоточенная, собранная, будто всё вокруг было фоном для её собственных мыслей. Она разговаривала с мужчиной, вероятно, меняя что-то добытое в лесу на необходимые мелочи.
Пит не подошёл. Не замедлился. Даже не посмотрел прямо.
Он просто отметил — как человек, который фиксирует важную точку на карте, но не ставит флаг.
Память Пита тихо отозвалась чем-то тёплым и болезненным одновременно — ощущением, которое он пока не позволял себе разбирать. Сейчас было важнее другое: она двигалась уверенно, знала рынок, знала людей, и рынок, казалось, знал её.
Выживающая, — отметил он про себя.
Дорога к дому Мэлларков шла мимо знакомых домов и переулков. Пит снова почувствовал, как тело автоматически подстраивается под маршрут — где замедлиться, где обойти лужу, где придержать шаг. Эти мелочи приходили без усилий, и это одновременно успокаивало и тревожило: память Пита встраивалась всё глубже.
Пекарня встретила его запахом — тёплым, густым, почти обволакивающим. Это был запах хлеба, который не просто насыщает, а создаёт иллюзию стабильности. Даже здесь, в Дистрикте 12, хлеб оставался символом чего-то большего, чем еда.
Внутри уже шла работа. Отец у печи, один из братьев сортирует готовые буханки, мать считает что-то, тихо двигая губами. Пит вошёл без слов, снял куртку, аккуратно повесил её на крючок и сразу включился в работу, не задавая вопросов.
— Как школа? — спросил отец, не оборачиваясь.
— Нормально, — ответил Пит после короткой паузы, ровно такой, какая была у него раньше.
Это слово подходило ко всему в Дистрикте 12. Нормально означало: никто не умер, ничего не сломалось окончательно, день прожит.
Глава 3
Мысль о Жатве не оформилась у Пита в виде чёткого решения сразу и окончательно, она складывалась постепенно, как складываются привычки или маршруты — сначала почти незаметно, затем всё увереннее, пока в какой-то момент не становится ясно, что иначе уже и быть не могло. За несколько дней до церемонии в Дистрикте 12 изменилось само ощущение времени: дни тянулись медленнее, утро начиналось с тягучего напряжения, а вечера заканчивались слишком рано, будто город старался поскорее спрятаться от собственных мыслей.
Пит замечал это повсюду — в пекарне, где разговоры стали осторожнее и суше, где покупатели дольше задерживались у прилавка, словно им хотелось убедиться, что привычный порядок ещё держится; на улицах, где люди реже смотрели друг другу в глаза; в школе, где учителя, соблюдая формальности, повторяли одни и те же фразы о долге и традициях, не вкладывая в них ни малейшего смысла. Всё это было не ново, но теперь Пит смотрел на происходящее иначе, не изнутри привычного страха, а словно со стороны, выстраивая в голове структуру происходящего, отделяя внешний ритуал от его реального назначения.
Он довольно быстро понял, что его поведение в эти дни имеет значение не меньше, чем само имя, написанное на бумажке в стеклянном шаре. Любое чрезмерное напряжение, любая попытка дистанцироваться или, наоборот, выглядеть слишком спокойным могла вызвать вопросы, а вопросы в Дистрикте 12 никогда не оставались просто вопросами. Семья знала Пита всю его жизнь, знала его привычки, интонации, реакции, и чем больше он менялся внутренне, тем важнее становилось не дать этим изменениям проступить наружу слишком явно. Принятие Жатвы — не как приговора, а как возможного исхода — позволяло ему оставаться в рамках ожидаемого, не выделяться, не заставлять родных пристально всматриваться в него и искать объяснения тому, что объяснять он пока не был готов.
Но это было лишь началом логической цепочки.
Чем больше Пит наблюдал за окружающим миром, тем яснее становилось, что Голодные игры — это не только инструмент запугивания, но и один из немногих работающих механизмов социального перемещения внутри Панема. Даже здесь, в самом бедном дистрикте, победителей помнили, их имена не растворялись в общей массе, их семьи получали пусть ограниченные, но реальные преимущества. В мире, где статус определял доступ к еде, безопасности и информации, Игры становились жестоким, но действенным лифтом, поднимающим тех немногих, кому удавалось выжить, на уровень, недоступный для остальных. Оставаться просто сыном пекаря означало принять заранее очерченный маршрут жизни, в котором почти не было пространства для манёвра, тогда как участие в Играх, независимо от исхода, делало человека заметным, а заметность в Панеме была формой власти.