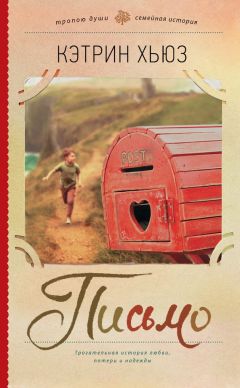Мастиф (СИ) - Огнелис Елизавета
— Никто из вас в своей жизни никогда и ничего не делал для других людей. Может, кто-то забил гвоздь или прочистил сортир — но в собственной квартире, в собственном толчке. Остальное время вы сосали мою кровь и кровь моих братьев. Служащие, менеджеры, банкиры — вы только и думали, чтобы выбрать местечко потеплей, чтобы урвать жирный кусок. Я и подобные мне всю жизнь только отдавали. Я работал токарем — чтобы вы ездили на дорогих и красивых машинах. Я выпускал датчики — чтобы ваши машины не ломались. Я растил хлеб — чтобы вы его жрали. Всю жизнь — отдавал, отдавал, отдавал…
Есть различие между трудом и работой. Да, многие из вас трудились, может быть, до потери пульса. Но работал только я… Работа, падла, может быть со знаком «плюс», а может быть со знаком «минус». Так вот — моя работа — со знаком «плюс». А ваша, даже не знаю, как бы вам еще обидней сказать, разве что в харю плюнуть… Ведь сверхчеловек отменил для нас все, что может быть со знаком «минус». Не даром ведь электричество вразнос пошло… Надо же случится такой глупости — человек, рабочий, крестьянин, вдруг понял, что хватит отдавать все, что он сделал, а взамен этого получать нищие банковские счета, телевизионные шоу, глупые развлечения, пустые обещания — плод вашего труда. Вы всегда считали нас серой массой, быдлом, пытались даже переделать, поднять уровень образования, сделать умными и красивыми. Чего же вы теперь орете? Чего заныли? Вот он я, ваш образованный рабочий и крестьянин. Да только вот промашечка вышла. Не хочу ничего отдавать просто так, не хочу больше работать на кого-то. Ан нет, не дают, прилипли, кровососы. Вот поэтому встал я, встали мои друзья, встали работяги — и решили спросить: а за что их так гнобят? За деньги? Вот вам ваши деньги, подавитесь ими! А если не подавитесь, то я то вам пасти буду рвать, смотреть, какого цвета ваша кровушка. Может, она у вас голубая? Да нет, не голубая, совсем не голубая. Красная, жаркая. Много вас, много крови насосали. Ничего, ничего… к стеночке поставим, только жаль, что не сможем всех и сразу, — Александр говорил не прерываясь, пытаясь сказать как можно больше до того, как недовольный гул перерастет в крик, а потом и в драку. Жаркая будет драка — может быть последняя.
— А я? — Мастиф вышел на середину, рванул рубаху, словно стало жарко. — Знаю, за что я здесь. Я, таких как вы — стрелял десятками, сотнями, в землю заколачивал, за ноги вешал. Отцов и жен ваших, и детей ваших, чтобы они такими же паскудниками не выросли. Я же селекцию знаю, я же общество фильтровал, чтобы ни одна гнида мимо не проскочила. Чтобы ни у кого даже мысли не возникло, что живое слово можно бумажкой заменить. Я преступник, и знаю, в чем провинился. А вот вы не знаете — тупые скоты. Это же надо — довести такого спокойного, терпеливого, безобидного Андрея Павина до того, что он тоже убивать захотел. И рабочего, который сорок лет у станка без жалобы выстоял — а потом «жилет смертника» надел? Сколько же надо нас давить и унижать, чтобы мы такими… Эх, блин, как жаль, что мало успел за яйца подвесить…
— Эй, базар-то фильтруй…
— А как же мы, врачи, учителя? — послышался крик с дальних нар.
— Мочи его, собаку, — прохрипел бывший банкир.
— Палач! — кричали уже многие, они уже знали, что и ком кричать.
— Отчего бы не подраться? — тихо сказал Саша. А Мастиф выкрикнул:
— Ну, держись, сволота!
И — запустил ближнему пальцы в рот, большой палец уперся в подбородок, вывернул — так вырывают нижнюю челюсть — и еще раз дернул вверх, большим пальцем чуть ли не прорывая плоть, что есть дури, поволок визжащее тело за собой.
Кто протянул руку? Мастиф упал на подставленный локоть всем весом, с наслаждением слушая страшный крик и хруст кости. Вцепился в курчавые волосы, перехватил чужую ладонь, сломал палец, бросился на худого военного, запрокинул голову и впился в кадык зубами, развернулся, пролетел через нары, его пытались задержать, сорвали сапог, но он только рычал… Поймал кого-то за голову, не ощущая ударов — упал на пол боком, хрустнула шея, рядом чья-то нога в калоше — и рука Мастифа молниеносно бросилась вверх, нащупала мягкий клочок плоти — и вывернула, почти оторвала…
— Ну что, суки? — он засмеялся, глядя в растерянные лица. Наверно, выглядел он будь здоров — кровь с подбородка капает, рубахи нет, весь в шрамах, в свежих царапинах, напряженный, поджарый — чистый зверь.
Гремит ключ в замке, надзиратели не дремлют, но они совершенно не представляют, с кем столкнулись. Сейчас Мастиф выйдет отсюда, его невозможно остановить, он совершенный продукт цивилизации, его мозг направлен только на одну цель — убивать. Три здоровых мужика, похожие на пятнистых обезьян, ввалились с дубинами, не остановились, не огляделись — сразу влетели в толпу, за ними еще трое, но это — по его собачью душу. Мастиф легко вскочил на нары, на третий ярус, стащил с ноги уцелевший сапог — и прыгнул, к двери, метнул «кирзач» в единственный светильник, заливавший камеру белым солнцем. Попал, свет погас, пора действовать. Мягко локтем охватил толстую шею, дернул на себя, чувствуя мечту человека освободиться, подогнул ноги — и резким движением, вложив всю силу жилистого тела — перекинулся на спину. Человек дернулся, обмяк, Мастиф нашарил на поясе теплого мертвеца ключи, подхватил дубинку. Простое правило — надо бить как можно сильней. Надо стараться убить с первого удара, вложить всю силу, которую еще можешь найти. По стенам забегали зайчики фонариков.
— Волки позорные! Бей легавых! — заорал Мастиф, надеясь, что не зря.
Зря, не люди, а сопли, таких только по стенам размазывать…
Нельзя, чтобы дверь захлопнулась.
Это происходило настолько быстро, что казалось нереальным… Мастиф позволил дубине содрать кожу со лба — а потом прыгнул, прямо в вытянутые руки, свалил врага, тычком вогнал пальцы под ребра, рванул на себя, с наслаждением слушая дикий крик. Кто-то снова ударил по голове, звук пропал, но сознание никуда не делось. Саша попытался отпрыгнуть — но упал, ноги не слушались, и только одна мысль еще осталась в воспаленном мозгу: «Надо на спину, нельзя, чтобы били по спине…».
Снилось, что Иван идет по трупам, по пятнистым рядам, выдавливает кровь сапогами, улыбается отцу. Саше плохо, но он тоже пытается улыбнуться сыну, губы не слушаются, под щеки будто впихнули два арбуза, нос не дышит.
— Пить, — кричит Александр. Он хочет пить, хотя бы немного воды или чуть-чуть крови, плевать, что она вязкая и противная.
— Пить, — хрипит Саша. Глаза открываются, он еще не верит, что жив, может — уже мертв, но мертвые, кажется, ни разу не страдали от жажды, разве что в аду. На какое-то мгновение пришла мысль, что он и попал в ад, но захотелось засмеяться глупости этой мысли. Мастиф знал, что ад никуда не исчезал, что он всегда жил в нем, не он — в аду, а ад — в Мастифе. Это правильно, это честно и справедливо. Кто-то должен страдать. Пусть же страдает самый сильный, самый выносливый, самый честный, самый трудолюбивый — ему не привыкать.
Мастиф изучал помещение — медленно, стараясь не слишком дергаться, вращая глазами — насколько позволяли распухшие веки. Спина цела — это главное. Руки болят, пальцы, похоже, сломаны, зубов нет, ноги тоже не в лучшем состоянии. Самое поганое — его посадили к малолеткам, забросили, пока он был без сознания, еще сказали, это уж наверняка: «Развлекайтесь».
Он им еще покажет, главное — до крана добраться. И чтобы вода была. Пока его не трогают, просто смотрят. Это хорошо, надо хотя бы пару минут — чтобы прийти в себя, а потом посмотрим.
Вода в кране оказалась тухлой и пропахшей кровью, Александра вырвало, но он напился еще раз, непослушными руками протер лицо (на левой просто трещина, и несколько фаланг сломано, а вот на правой, пожалуй, суставы раздроблены).
— Ты че, падла, нам в раковину напоганил? — сурово спросил молодой голос. — Сейчас обратно все вылижешь…
Александр пощупал языком губы, выплюнул крошки зубов. Говорить, вроде, можно.