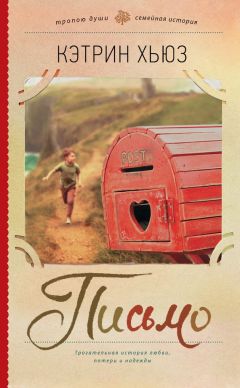Мастиф (СИ) - Огнелис Елизавета
Решетка распахнулась, Серега подхватил окровавленное тело на руки, понес. Их отход прикрывала Ень. Сашка был близок к обмороку, но все равно заметил, как хищно горят глаза китаянки, как умело она обращается с оружием. Настоящая богиня войны, не такая уж и хрупкая, больше гибкая, стремительная, форма на ней сидит просто ошеломительно… лучшая подруга настоящего воина.
Свежий воздух опьянил, Александр от боли не понимал — снится ему, или все наяву, во дворе во все стороны палят «волкодавы», с вышек и стен огрызаются, но вяло — видимо, Шпак перед атакой «снял» всех, кого только мог. Молодец, умница, его бы в пару с Наилем — цены бы не было такой парочке.
— Я тебя вытащу, — гудел Шпак, стреляя с одной руки, перебросив Мастифа через локоть другой — как тряпку.
Ворота уже близко, как их вскрыли? Смешно, но Саше вдруг подумалось, что Шпак выбил их плечом… Искореженное железо под ногами, треск выстрелов все злее, пули не свистят — смерть не слышно за таким шумом. Один из «псов», Гиви-Боксер, словно споткнулся неудачно, а потом — повалился. Второй, Коля-Колли — развернулся, опустился на колено, сталь уже рвала ему живот, летели клочья, но он продолжал стрелять, еще секунду, пока в рожке не кончились патроны. Саша почувствовал, что падает, Шпак тоже запнулся, слон неуклюжий, упал на колени, захрипел, уронил друга на бетон.
— Сер-рей! — с отчаянием закричала Ень, и Мастиф понял, что все, надо вставать, идти самому, иначе — останешься здесь ни за понюшку.
— Еня! — Александр сначала хотел, чтобы она помогла, но потом передумал.
— Еня! — рявкнул Мастиф. — Прикрой Шпака! Убей их!
— Сер-рей! — кричала китаянка, подставив узкое плечо, словно прикрываясь обмякшим телом, а на самом деле пытаясь поднять полтора центнера неподъемного тела, невероятную тягу, и пули каждую секунду прибавляли гиганту в весе…
Даже сквозь шум и грохот слышен голос Шпака:
— Сашку мою… дочку… снайпер, — выплевывает богатырь слова вместе с кровью. — Из-за тебя… козла… я тебя… Девок береги… Беги… Сашка, я прикрою…
Мастиф сжал зубы. Обязан выжить, чтобы не случилось! До грузовика метров пятьдесят, навстречу бежит Леша-Полкан, Еня уже не пытается поднять любимого, молча строчит, выбирает секунды для спасения, потом тихо падает рядом. В черных волосах — осколки разбитого арбуза, Полкан тащит Мастифа, треск почти утих, только где-то буйствует огонь, и ревет старый надежный двигатель.
— На живом все заживет! — кричит Полкан, и Мастиф кивает. Заживет, как на собаке заживет…
— Кишками вашими вам руки свяжу, — бормотал Мастиф. — На бетон вас положу, по ногам вашим проеду, да не раз и не два, и скажу — это есть хорошо. Чтобы все видели, чтобы все чувствовали, чтобы все поняли… Потом сложу, живых в один котел сложу, без воды, всех вместе, чтобы друг друга заводили, всемеро воздастся каждому, чтобы как трусы… даже собачьей смерти не будет…
Дома все спокойно. Дом вымер, стал серым и тихим, в нем почти не жили. Ветер стучал по расхлябанному капоту, тучи на небе приготовились плакать. Полкан дотащил Сашу до второго этажа, вручил заплаканной Наташе. Сбежались все, поднялась Женя, Аня принесла компрессы, три женщины вместе выхаживали единственного мужчину, а потом Аня повернула голову (Александр это очень четко запомнил, хоть и был как в тумане), и спросила сжавшегося Полкана:
— Где Сергей?
— Анечка, — человеко-пес не находил слов. — Анечка, Шпак там… Там остался… И китаянка его тоже…
Аня встала с колен, пошла, ударилась об стену, упала, Женя с Наташей засуетились снова, а следующим мгновением Александр увидел сына.
Сначала Саша думал, что это сон. Он часто видел Ивана во снах. Любой отец гордился бы таким сыном, Александр тоже гордился. Не только внешностью, которой бы позавидовал любой ариец, или умом, который привел бы в почтение Ньютона. Саша гордился тем, что вырастил настоящего человека, пусть это и не его заслуга, но ведь — честен, справедлив, умен, красив, вежлив, воспитан, добрый без меры, жесток в меру, не пьет, не курит, стихи пишет, картины, от навоза свежего нос не воротит, в поле — лучший помощник. Всего понемногу, от всего чуть-чуть. Уважает, да и любит отца и мать, старшую сестренку чуть ли не на руках носит. И Люда в Иване души не чает, хорошо это или плохо — не понять…
— Хорошо, что ты вернулся, — прошептал Саша.
— Я ненадолго, — ответил Иван, коснулся отцовского горячего лба, боль тотчас же отступила, но не исчезла, а спустилась — к рукам и ногам.
— Лечишь? — прокряхтел Александр. — Зубы мне надо…
— Не дергайся, — предупредил сын. — Плохо срастется. Будут тебе зубы. Потом долго спать надо.
Александр застонал, не в силах больше терпеть. В комнату заглянул Леша-Полкан.
— Чего тут? — спросил он, страх промелькнул в глазах. А сын легко поднялся, протянул руку к человеку-псу, подтянул к себе, положил гигантскую пятерню на плешивую голову и легко, но с треском — повернул. Полкан свалился на пол, засучил ногами.
— Этот человек предал тебя, — высокопарно сказал Иван, восьмилетний подросток, «высокий юноша с горящими глазами», Человек с большой буквы. Вот с кого надо спрашивать! Вот кто может помочь. Есть все-таки бог на свете…
— Он собирался предать тебя еще, — добавил сын, снова сел на пол рядом с отцом, положил ладонь ему на глаза.
— Спи, — сказал он словно маленькому. — До чего же, папка, ты живучий… Я еще приду, надо обговорить кое-что.
Через два дня Александр уже встал на ноги, голова кружилась, Наташа пытались подсунуть ему старый костыль, на котором он скакал еще двадцать лет назад, когда сломал позвоночник. Но Мастиф посмотрел на ржавую железяку, хмыкнул, и приспособил под костыль снайперскую винтовку с пластмассовым прикладом, на дуло наставил набалдашник, чтобы пыль и грязь не попадала, а после первого выстрела все равно сорвет, так что все нормально.
Жизнь шла своим чередом, в понедельник, выдержав положенные три дня, закопали Шпакова, а рядом с ним — китаянку, Ень. Могилы копали Наташа, Аня и Женя, на старом месте, за тропинкой в лесу. К соседям решили не ходить. Шпаков, перед тем как идти брать тюрьму, собрал всех кого смог. Почти полсотни человек. Вернулись только двое. Выжил один.
Сам Александр не мог ничего делать — руки в лубках, нога — в валенке. Он просто стоял и смотрел, как гроб спихнули в неглубокую яму — трем женщинам не поднять богатырского тела. Ень уложили рядом, без гроба, в белоснежной простыне, для нее могилка была куда как меньше. Аня первая бросила горсть земли. Потом вздохнула и бросила еще — на бывшую любовницу бывшего мужа. Саша под скрип лопат и шуршание земли проковылял вдоль рядов. Вот Андрюха Павин, сколько лет прошло, а все равно улыбаешься, вспоминая как после четвертой стопки коротыш валился под стол… Или после пятой? Забыл… Вот Наиль рядом с братом лежит. Вот «стачечники»: у Кощея родных не оказалось, у Сереги с расточки мать померла в тот день, когда электричество отключилось. Врачи приехали, а дефибриллятор — не работает, хоть тресни… Тоже здесь лежит. Чечены, буйны головушки, все здесь прилегли, славные парни, глупо погибли. Еще татарин — Ильдарка, тоже по глупости… Снова «волкодавы» пошли… Вот еще две могилки прибавились — одна здоровая, другая совсем маленькая, надо землицы побольше накидать, иначе провалится… Принес их Иван, сразу обоих, через оба плеча, сквозь весь город прошел, сказал, что нечего им в тюрьме делать, здесь их место. Это он правильно поступил, молодец, сынок…
Поминки прошли просто, пили мало, закусывали малосольными огурцами и жареной картошкой, хорошее в этом году лето, урожайное. Китайцы съехали сразу — как только Ень, младшая дочь Чжао, достала спрятанный отцом автомат. Китайцы почему-то считали, что Шпак подарил оружие девушке сразу в день знакомства. Старший сын Чжао сказал, что надо уходить, что плохо будет, если узнают… То ли трусливые такие, то ли так выживают… Непонятные люди, невнятные даже, будто из другого мира, храбрости нет ни крупицы. Хотя, брат, эта Ень тебе жизнь спасла, и Шпака не бросила. Ты друга-товарища бросил, а она — нет. Вот и думай, бросают русские своих или нет. «Не бросают, — усмехнулся про себя Мастиф. — Кидают. Ты ведь девчонку послал не для того, чтобы она Шпака прикрывала. Ты свою задницу прикрывал. Жить хотел. И вот сейчас — руки-ноги сломаны, а мстить будешь. Даже не мстить, а наказывать. Чтобы знали, за что сдохнут. Все сдохнут. Никого не пощажу. Объяснял, доказывал, убеждал — все без толку. Ничего, еще построит «Новая власть» в старой Сибири лагеря. Будут новые декабристы, новые Достоевские и модерновые Шаламовы и Солженицыны писать, как их, чистых и честных, в говне топили. Только вот знать не будут, что это говно — их собственное. А тебе Мастиф, задача вообще непосильная, первый раз в жизни не знаю, как и подойти…»