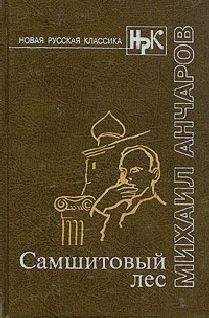Максим Хорсун - Солдаты далекой империи
«Волны гасят ветер» — короткая повесть о противостоянии моряков коварным штормам Северной Атлантики. Еще одна повесть — это «Холодные берега». Довелось мне когда-то поглядеть на Новую Землю… тогда я решил, что передо мной самое неприветливое место во Вселенной. Ну не знал я в то время о пустошах Ржавого мира!
Что еще? Пяток предельно коротких поэтических новелл, объединенных под общим названием «Мост над океаном». О! Моя любимая вещь — иронический рассказ «На корабле — утро». Писался он с натуры, с жизни нижних чинов на «Кречете». В свое время я спал и видел пухлый томик сборника, на обложке которого будет оттиснуто мое имя. Эх, молодо-зелено…
Терпеть не могу, когда выполненная с душой работа томится в столе. Что теперь делать с центральной вещью несостоявшегося сборника, с крепкой и даже в чем-то монументальной повестью«Волны гасят ветер»? Отдать матросам на самокрутки? Или читать вслух морякам, не занятым дежурством у пулеметов и боевых фонарей?
Я принялся складывать рукописи в стопки. Господи!Неужели это я столько написал? Во временибыло! Вагон и маленькая тележка…
Заметив, что пальцы оставляют на листах грязные пятна, я с некоторым сожалением оставил рукописи в покое.
Вот моя койка. Она аккуратно застелена английским пледом. Я же чумазый, как бездомный пес. Было бы свинством залезть под одеяло, не очистив себя от коросты.
Поэтому я вздохнул, снял плащ, постелил его на полу и улегся здесь же. Нам, бродягам, не привыкать.
Однако сон, вопреки ожиданиям, не шел. Моя нервная система гудела, словно провода телеграфного агентства. Казалось бы, очутившись за ста двадцатью миллиметрами крупповской брони, я наконец-то могу расслабиться. Как бы не так! Мысли беспорядочно перескакивали с одного на другое. С электрического привода башен артиллерии главного калибра и орудий Кане к ране Северского, с предварительной оценки запасов воды к детской улыбке Галины.
Я слышал отзвуки далеких голосов, иногда чьи-то каблуки начинали стучать прямо над головой. Где-то в трюме заворочались могучие механизмы, и дрожь пронзила палубы. На миг зажглась электрическая лампочка, скрытая под сферическим плафоном, но тут же погасла.
Я чувствовал общее настроение. Я был частью этого муравейника. А муравейник кипел, муравейник готов был бросить вызов вулкану!
Потом за дверями каюты что-то громко хрустнуло, в этот же миг послышалось испуганное «ой!» и затем — оглушительный дребезг. Я вскочил на ноги, впопыхах зажег свечу, рывком распахнул дверь…
Никого!
Лежит у порога раздавленная пепельница, а рядом — серебряный поднос, на котором, говорят, подавали чай самому великому князю Александру Михайловичу, когда он в 1899 году посещал «Кречет» во главе адмиральской комиссии. Запеченные на углях картошки разбежались по коридору, точно серые мыши, фарфоровая тарелка, в которой предполагалось подать сие блюдо богов, — вдребезги, хрустальная розетка, до краев наполненная свиной тушенкой, — вверх дном. Дымящийся чай растекается лужей; судя по давно забытому аромату, в него был добавлен лимонный сок.
Из темноты послышались всхлипы. Я решительно перешагнул через свой… гм… обед и отправился на поиски опростоволосившегося стюарда. Судя по всему, этот прохвост далеко не ушел.
Галина сидела понурив голову на ящике из-под адмиральского чайного сервиза у дверей офицерской кают-компании. Я опустился перед ней на корточки, ласково положил руки на хрупкие плечи. Галя отстранилась, закрыла лицо ладонями и отвернулась. Видимо, для того, чтобы собраться с духом и через секунду-другую разрыдаться во весь голос.
И очевидным стало то, что в жизни мне повезло: женские истерики, учитывая специфику работы хирурга, до сих пор приходилось наблюдать не так уж часто.
— Ну, чего ты рассиропилась? — вопрошал я, ощущая собственную беспомощность. Преотвратительное, кстати, чувство. Сидишь как дурак, а причины наряду со следствиями утекают сквозь пальцы, словно вода. — Ну, поднимем картошки с пола и съедим их вместе: мы не кисейные барышни.
— Я вашу цацку раздавила! — давясь слезами, выпалила Галя.
— Пепельницу, что-ли? Пепельницу ты раздавила? Да и шут с ней! — воскликнул я с облегчением. И в следующий миг сердце екнуло: у ног Галины я заметил темную лужицу.
— Галя! Что это с тобой?
Не дожидаясь ответа, я схватил женщину за левую лодыжку и стащил со ступни то, что когда-то было нарядной розовой туфелькой. Пепельница сполна отплатила раззяве за свою преждевременную кончину: на подошве у Гали обнаружился глубокий порез.
— Так-так! — Я привстал. — Потерпи, сейчас найду чем бы тебя перевязать.
— Нет! — Она вдруг вцепилась в мой свитер обеими руками и снова усадила рядом с собой. — Погодите!
— Чего? — удивился я. — Почему вы не женитесь на мне?
Надо признаться, этого вопроса я не ожидал, Гм… мягко сказано — «не ожидал». Да она просто наповал сразила этой абсурдной пропозицией!
— Я? Почему? Не женюсь?
— Ведь и батюшка есть, и каморка у вашего благородия отдельная, а не женитесь и не женитесь!.. — Моя расчетливая мечтательница не договорила: она вновь закрыла лицо ладонями и зашлась в беззвучных рыданиях.
— Погоди! — Я еще раз положил руки на плечи Галины и легонько ее встряхнул. — Я что, собирался на тебе жениться?
Галя издала несколько нечленораздельных звуков, затем шумно высморкалась и заговорила, сильно кривя рот:
— Да как же так, ваше благородие? Дите у меня будет, а дитю батька нужен. Лучше вас батьки и на сто верст окрест не сыщешь! Вы — забо-о-отливый!
Видимо, для того чтобы усилить пропозицию, она порывисто подалась вперед, обняла меня за шею и прижала мою голову к своей груди, едва не убив потенциального мужа сомнительным ароматом из смеси запахов кухни и женского пота. И еще, чтоб растопить черствое холостяцкое сердце окончательно и бесповоротно, чертовка принялась целовать меня в лысое темечко… словно других, более подходящих для ласк мест она не нашла!
И боюсь, что от неожиданно свалившегося на голову отцовства мне было бы не отвертеться, однако на верхней палубе в этот драматический момент застучал пулемет. Галина взвизгнула, втянула голову в плечи и уставилась на темный подволок, округлив глаза: убедительную речь «максима» ей слышатьдо сего часа не приходилось.
Что касается меня, то впервые в жизни я испытывал радость от звуков стрельбы и облегчение оттого, что с минуты на минуту нужно будет вступить в бой. В бою как-то проще, правильнее. Или ты кого, или кто тебя. Не то что в отношениях между мужчиной и женщиной. Кто кого, а главное — за что?.. Порою без чарки беленькой не разобрать.
Я молча поднялся, толкнул дверь в кают-компанию. Подхватил Галину на руки, внес ее внутрь и уложил на софу, приказав успокоиться и ждать моего возвращения.
Сам же выхватил из-за пояса револьвер и поспешил наверх. Когда я был в двух шагах от выхода на спардек, стрекот «максима» заглушили ритмичные хлопки. Я понял, что моряки открыли огонь из скорострельных пушек Гочкисы.
Похоже, что события стремительно набирали оборот.
Эх, из огня да в полымя…
5
Северский стоял в ходовой рубке. Сосредоточенно разглядывал в бинокль рыжее полотно пустоши. Левая рука покоилась в лубке, сам был лицом бледен, но на ногах держался твердо. На плечах артиллериста красовался новенький китель с серебристыми погонами. Дрожащими пальцами раненой руки Северский сжимал потрескивающую папиросу; моего появления в рубке он не заметил или попросту решил не обращать внимания. Здесь же крутился Гаврила, который, надо сказать, тоже перестал походить на современного Робинзона Крузе. Боцман успел приодеться, привести в относительный порядок кудлатую шевелюру и укоротить бороду. Кажется, Гаврила был чем-то занят… Интересно, зачем ему понадобился хронометр?
— «Гочкис» на спардеке — десять из десяти! — громким и, несомненно, довольным голосом сообщил офицер. Затем прочистил горло и гаркнул что было мочи: — Носовой каземат, цель номер восемь! Огонь по готовности!
Команду Северского при помощи рупора репетовал матрос, ожидавший снаружи.
— Гаврила! — бросил офицер, не отрываясь от бинокля.
— Есть! — изрек боцман и поднес хронометр к обветренному носу.
Какое-то время ничего не происходило. Я собрался было заявить о своем присутствии, когда вдруг бабахнуло так, что у меня заложило уши.
— Сколько? — последовал лаконичный вопрос Северского.
— Две с половиной, — столь же лапидарно проворчал Гаврила.
— Долго! И к тому же — в «молоко». Непозволительная роскошь! — Северский отложил бинокль, перехватил папиросу пальцами здоровой руки и принялся дымить.
— Перелет? — спросил я.
Северский обернулся, оглядел меня с головы до ног, поиграл желваками на скулах.