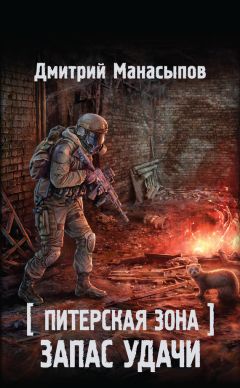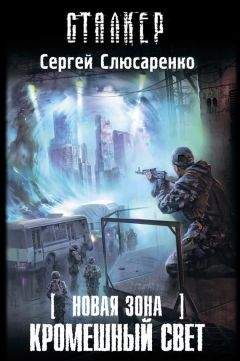Дарья Иволгина - Ливонская чума
Севастьян Глебов стоял в рядах пехотинцев. Те, кто должен был биться с ним рядом плечом к плечу, были ему незнакомы.
Чего от них ожидать?
Смелости и верности? Или они струсят и побегут, оставив боярского сына на произвол судьбы? Довериться он мог только Ионе, но Иона страшно маялся животом и валялся без сознания в лагере, далеко в стороне от битвы. Севастьян боялся, что у него началась дизентерия, страшный бич армий на походе, и велел своему оруженосцу оставаться подальше от прочих. Мало ли что в голову людям придет! Заразы боятся все.
Далеко впереди скакали лошади, в небе дергались и трещали на ветру флажки. Потом донесся гром конницы. Лязганье мечей слышалось издалека. От этого звука как будто всё кости в теле напрягались. Пехоте было велено ждать, пока особый сигнал не велит вступать в сражение.
Рядом с Севастьяном переминались с ноги на ногу. Потом войско расслабилось, начались обычные разговоры.
— У меня маманя строгая, — мечтательно тянул один солдат. — Как там жена с ней?
— Небось, хорошо, — сказал другой. — У нас один вернулся домой, а там прибыток — здрасьте! — супруга встречает с младенцем на руках.
— Так что с того?
— А то, что его больше года дома не было… Но это, братцы, чепуха, а вот что забавное: младенец черненький и глазки у него узенькие! Чистый татарчонок!
— Ну! — подивился тот солдат, у которого «маманя строгая». — И что он?
— А ничего. Заплакал, поцеловал жену, поцеловал татарчонка и в дом пошел.
— И так и жил?
— Мало того, он еще и говорил потом, что жена о нем позаботилась. У него-то одни девчонки до этого рождались, а после татарчонка — как прорвало: трое сыновей.
— Удивительная история, — сказал пожилой солдат и почесал под бородой. — У нас тоже такой случай был. Только ублюдка о камень разбили…
— Ну и глупо, — фыркнул тот, что рассказывал историю о татарчонке. — Бог за такое карает.
— Верно, покарал. Весь дом сгорел, и с домом жена, корова и все имущество.
— А сам?
— Остался жить да плакать. Теперь в монастыре.
Севастьяну хотелось, чтобы все они замолчали. Эта болтовня не давала ему слушать голос битвы. Севастьян пытался понять, скоро ли вступать в бой и как разворачивается сражение. Неожиданно хлопки выстрелов и выкрики резко приблизились. Мимо замершего пешего строя пронесся всадник, и людей окатило жаром и особым смрадным духом сражения. Из-под копыт коня вылетали комья взрытой почвы; конь был забрызган грязью и тяжело дышал.
— Пора! — выкрикнул Севастьян, сам не понимая, какая сила его подтолкнула, и вся рать с громким надсадным воплем устремилась вперед, топча комковатую болотистую почву.
Рядом сразу оказались поляки. Запели, заверещали сабли, под самым ухом у Севастьяна хекнул, точно рубил дрова, пикинер, и повалился богато одетый человек, безжалостно пачкая свой красивый короткий плащ.
Несколько человек подскочили к Глебову, и он едва успел отразить удар копья. Пока копейщик перехватывал руки удобнее, глебовский прямой ливонский меч вонзился ему в бок и отскочил, точно ужаленный. Кровь хлынула из раны поляка на землю, и тот уставился себе под ноги. Дальнейшего Глебов не видел — перед ним возник, как в сказке, прямо из земли новый противник, и началось новое единоборство. Раненый бок досаждал Глебову, как будто его кто-то подхлестывал кнутом при каждом движении.
Крича во всю глотку и тем облегчая себе боль, Глебов бился с врагом. Он не считал ударов и не помышлял ни о своей жизни, ни о жизни врага. Руки и вся грудь его были мокры, но от крови или от пота — Глебов не знал. Как не понимал он, чья это кровь, его собственная или чужая.
Неожиданно он увидел перед глазами пучок травы. Смятый и испачканный, но все еще зеленый. Это удивило Севастьяна.
Несколько минут он смотрел на траву, а потом закрыл глаза! И стало очень тихо.
Когда Севастьян пробудился, было холодно и темно. Он пошевелился, недоумевая: что произошло и где Иона. С трудом разлепил сухие губы и проскрежетал:
— Иона…
Ответа не последовала. Севастьян передвинул руку, и тотчас крохотная черная жабка скакнула ему на ладонь. Помедлила немного, чуть толкнула его миниатюрными ножками и сгинула. «Хоть кто-то здесь живой, — подумал Севастьян. — Не я один». Эта жабка словно придала ему сил.
Он оперся о землю ладонями и сел. Голова резко закружилась. Севастьян выждал, чтобы головокружение приостановилось, и осторожно провел по себе рукой. Болело везде, но кое-где — сильнее. Знакомая боль в боку даже обрадовала его: хоть что-то не изменилось! Нашлась и новая боль, в левом плече, в опасной близости от сердца. Видать, успел повернуться в последний миг, и враг задел его не там, куда целился.
Ноги, вроде бы, слушались. Осталось найти Иону.
Но тут Севастьян сморщился: он вспомнил, что верный оруженосец сражен резью в животе. Надеяться не на кого. Надо подниматься и тащиться на огни. Даже если это польские костры — не убьют же раненого поляки.
Осталось встать. Вот занятие для сильных духом.
— Пресвятая Богородица, спаси меня! — взмолился Севастьян. Он осторожно оттолкнулся от земли и выпрямился. Ему удалось не упасть. Тогда он сделал первый шаг.
Затем второй.
Получается! Глебову хотелось кричать от ликования. Все-таки он жив и может ходить. Что лучше этого?
Темнота плавала вокруг Севастьяна неопрятными комьями, в ней то и дело вспыхивали дразнящие искры, они плавали перед глазами, извивались, как змеи, и улетали вверх, куда-то в небо, куда Севастьян не осмеливался поглядеть, чтобы не потерять равновесие и не упасть.
Затем тьма сделалась спокойнее. Впереди мелькнул огонь. Там уже не бесновались искры. Ровное пламя костра согревало ночь, распространяя вокруг себя приветливый свет. И Севастьян побрел на этот свет, всецело полагаясь на его доброту.
Люди, сидевшие у костра, были ему незнакомы, но это были русские, не поляки. Добравшись до них, Севастьян оступился и рухнул, в последнем усилии простирая руки к сидящим. Те сразу зашумели, подхватили упавшего, подтащили его поближе к огню, принялись тормошить и щипать. Сквозь дремоту, навалившуюся сверху, как пудовая перина, Глебов понимал, что его раздевают, рвут с него старенький стеганый тегиляй с нашитыми кольчужными кольцами. Сил противиться этому у него больше не было, он промычал что-то и заснул.
* * *Новое пробуждение оказалось совершенно отличным от первого. Во-первых, был белый день. Во-вторых, прямо на Севастьяна глазел не кто иной, как Иона. Оруженосец быстро-быстро моргал и дергал углами рта, как будто готовился улыбнуться.
— Иона, — сказал Севастьян и фыркнул носом.
— Очнулся! — совершенно по-бабьи взвыл оруженосец. — Батюшка! Живой!
— Ну тебя, — пробормотал Севастьян. — Что случилось?
— А как я тебя нашел-то! — заходился Иона.
— Хватит, — сказал Севастьян тихо, но твердо. — Говори по-человечески. Довольно причитать. Сперва только скажи, кто победил и где мы находимся.
— А находимся мы под Пернау, — сказал Иона. — И победили тоже мы. Радзивилл разбит и теперь письма шлет нашему государю, просит, чтобы царь-батюшка перестал топтать Литву, точно петух курицу.
— Больно уж цыплята от этого топтания получаются скверные, — сказал Севастьян.
Иона засмеялся — угодливо, с привзвизгиваниями.
И снова Севастьян удивился:
— Что ты, как щенок борзой, скулишь и радуешься, разве что хвостом не виляешь?
— Был бы хвост у меня — вилял бы, не сомневайся! — заверил Иона. — Ты у меня три дня почти проспал. Я боялся, что никогда уж тебя не увижу живым.
— Ладно, — сказал Севастьян. — Понятно. У тебя живот болел, помнишь?
— Как такое забыть! — скривился Иона. — Чуть не помер я от этакой боли. Все кишки так и скрутило у меня, сплело в десять косичек, как у нечестивой татарки.
— Вылечился?
Иона усердно кивнул несколько раз подряд.
— Я средство верное знаю. Заплюй-трава в крутом кипятке, и выпить надо сразу, как закипит. Больно, зато как рукой снимает.
— Что еще за заплюй-трава? — изумился Севастьян. — Откуда ты взял эту глупость?
— Как назови, Севастьянушка, хоть глупостью, хоть дуростью, а только она меня исцелила совершенно. Я сдуру этой ягоды поел, кисленькой…
— Я говорил тебе, что она ядовитая, — напомнил Севастьян.
— Так ведь кушать хотелось, — оруженосец скорчил умильную физиономию. — Теперь-то какая разница! Я ведь исцелился.
Севастьян промолчал. Ему вдруг пришло в голову, что Иона нарочно устроил себе резь в животе, чтобы не участвовать в сражении. Или вообще никакой рези не было, одно притворство. Иона ведь комедиант, воспитанник старого скомороха, с него станется устроить представление.
Однако своих мыслей Севастьян вслух высказывать не стал. Тем более, что и трусом Иона не был. Мало ли по какой причине решил он избежать на сей раз сражения.