Вениамин Гиршгорн - БЕСЦЕРЕМОННЫЙ РОМАН
Швейные машины.
Ого!
Они перевернули все мировоззрение хлопотливых парижских хозяек…
Аккуратные, блестящие швейные машины красовались в витринах и дразнили видом своим и могучей своей сущностью этих женщин, наполнивших Париж стрекотом оживленных и слышных голосов.
Но до поры до времени были разговоры и волнения – вскоре им предстояло смениться другим стрекотом – ведь приобретение швейных машин было нетрудно и выгодно, а уж тогда-то не до бесед и споров будет хлопотливым парижским хозяйкам…
* * *
«Граждане!
Что было дорого в прошлом году?
Соль, сахар, вино, кожа.
Благодаря чему все это было дорого?
Благодаря акцизам, так как государству нужны деньги.
Теперь же, если вы дадите взаймы деньги государству, вы можете получить в счет процента многие продукты бесплатно.
Подписывайтесь на заем 1816 года!»
«Хозяйки!
Известно ли вам, что такое швейная машина?
Известно ли вам…»
Правительство не скупилось на восклицательные знаки.
* * *
– Огюст! Не смей покупать золотых пуговиц к жилету! Я хочу иметь машину!…
– Жанна, поторопись со стрижкой овец. Ты ведь читала объявление о займе.
10
– Я вас уверяю, граф, что наш корсиканский бульдог сошел с ума вместе со своими министрами. Это положительно скандал! Это черт знает что – издавать такие приказы!
И маркиз д'Эфемер, дрожа от ярости, налил себе и гостю по новому стакану бургундского.
– Успокойтесь, маркиз! – развертывая газету с злополучным приказом, проговорил граф Врэнико. – У императора, очевидно, имеется серьезное основание отдать подобный приказ.
Вы, граф, как будто не отказывали и королю Людовику в серьезности его намерений, когда этот верблюд был еще на Эльбе, – язвительно сказал маркиз.
– Я не вдаюсь в оценку высоких особ, маркиз! – сдержанно ответил на его выпад гость.
(Оппортунизм вообще явление не новое.)
* * *
На первой странице «L'Empire Franзaise» [8] жирно был отпечатан приказ, содержание которого так разобидело бурбонствующего маркиза.
Князь Ватерлоо именем императора осуществлял проведение плана дорожного строительства. По всей империи намечалось возведение насыпей определенного вида, и это внушало многим странное раздумье.
Но что особенно бесило маркиза д'Эфемер и других его круга, это:
«…к работам привлекается все без исключения население империи. Мужчины в возрасте от 17 до 45 лет обязываются предоставить личного бесплатного труда 240 часов в год; женщины от 20 до 35 лет – 180 часов в год. Никакое общественное положение, титул, ценз от этой повинности не освобождают. Исключение делается по отношению только…
…всякому гражданину, почему-либо не могущему или не желающему участвовать в работах, предоставляется возможность внести тройную стоимость рабочей силы в мэрию округа.
…Виновные в уклонении…»
– Титул! А-а? – забрызгал слюною сдержанный доселе граф. – Конфискация?! Тюрьма?! Московский погорелец!… А этот проходимец, произведенный в князья…
– Да как можем мы, дорогой Врэнико, копать землю, мы, в чьих жилах…
– Антуан, еще бургундского!
– Что ж делать, дорогой маркиз, – тюрьма!…
11
В комнате просторной и светлой корпел Роман над чертежным столом. Легко и четко ложились линии…
Тоненькие и грациозные, они группировались, цепляясь друг друга за новые прирастали к ним, веселый хоровод с минуту медлил так, а потом они вдруг разбегались врассыпную, врозь, в сторону, они резвились, и шалили, пока линейка, циркуль и угольник снова не собирали их.
Роман корпел над чертежным столом…
Как дирижер, весь уже во вдохновенном азарте, весь уже не здесь, в темном зале, где насторожился занавес, где суетятся и будоражатся звуки, как дирижер, у которого поет рука, управлял Роман дружным, слаженным оркестром своих инструментов…
Конец увертюре.
В дверь постучали.
– Войдите! – крикнул Роман.
И они вошли – министр полиции Фуше и шестеро в мундирах.
Полиция?… Что бы это могло значить?…
– Чему я обязан чести видеть у себя господина министра в неприемный час? Да еще с такой… свитой?!
Фуше молчал. Шестеро в мундирах были холодны и непроницаемы.
– Я спрашиваю, чему обязан я чести…
– Честь не велика. Вы арестованы по обвинению в государственной измене.
– Делайте ваше дело, – обратился Фуше к полицейским.
Шестеро в мундирах подошли к Роману.
– Но… – сказал Роман.
* * *
– Но… – сказал Роман.
Но вот уже который день он в этой тесной и темной клетушке; вот уже который день взбирается он под потолок навстречу робкому, унылому рассвету…
Сквозь маленькое, решетчатое окно утро смотрит в жадные глаза Романа… По грязному заплаканному небу торопятся облака, словно пушинки, поддуваемые озорником мальчишкой.
Ветер стар и зол, и не к лицу ему эти повадки; но нет. он не хочет сдаваться, он еще покажет себя, он надувает щеки – легче, легче, они лопнут! – он дует изо всех сил… Ветер стар и зол – он кашляет хрипло и натужно; вот он устал, смолк, и только молоденькие стройные ветки еще трепещут под рукой незваного любезника.
У Романа начинает колоть в глазах, он спускается с окна, долго машет затекшими руками…
Потом он садится на край постели, она жестка и безжалостна; Роман часто меняет позы – кажется, он ерзает от какого-то неотвратимого и едкого волнения… Так сидит он с лицом немного удивленным, потом вдруг встает – пять шагов туда, пять назад, вся камера десять шагов, и это в оба конца.
За дверью, тяжелой и низкой, – открывают и закрывают ее большим, ржавым ключом, замок каждый раз долго и глухо гудит, – за дверью беспрестанно, днем и ночью, не стихая ни на миг, – шаги…
Это часовой. Он ходит медленным ровным шагом по длинному коридору. Ему скучно, он зевает, и тогда эхо слышно в камерах протяжным, жалобным звуком… Роман пробует ходить с часовым в ногу; не удается. Для того это – работа, ему некуда торопиться, он выходит положенных двенадцать часов медленно и ровно, он выходит их, а потом завалится спать, и какая-нибудь Жанна рада будет разделить его одиночество… Роману не удается ходить с часовым в ногу, он сбивается, он нервен и тороплив; надо спешить…
Сегодня – четырнадцатый день, завтра – пятнадцатый… А может быть, его и не будет, пятнадцатого… Надо спешить…
Бежать невозможно… Крепки решетки и стены, а за тяжелой, низкой дверью днем и ночью, не стихая ни на миг, – шаги…
Роман думает. Мысли его смешались в беспорядочной чехарде:
«Конечно, заговор… Талейран… Фуше… подлое дворянство… Талейран, Фуше… подлое дворянство…» Перед ним ослепительным миражем вставала Франция, та Франция, которая грезилась ему еще в том времени, в Москве, в маленькой комнатке на 2-й Тверской-Ямской, в тот последний, прощальный год…
Над столом, щедро унавоженным лоскутами бумаги, карандашными стружками, крошками хлеба и сахара, обглоданными хвостами сельдей – скромными дарами торжествующего нэпа, склонен Роман в безмолвии и покое…
В комнатке предвечерний сумрак, густая тишина и нервное дыхание Романа… Из темного угла, бережно неся округлое свое брюшко, подходит к Роману Наполеон… На нем треугольная шляпа и серый походный сюртук… Он смотрит на Романа пристально и серьезно, роман хочет сказать что-то, что-то сказать надо, но слова перекатываются в горле неподатливым шершавым комом, и вот уже трудно дышать… И Наполеон вдруг тянет Романа за пиджак и говорит: «Эй, братишка… снимай, снимай! Ничего! Все одно разменяют!…» И, полураздетый, стынет Роман в подвале, в екатеринбургской контрразведке… «Все одно разменяют!…» Поставят к стенке, залп – готово. Но до этого придется идти по смрадной каменной лестнице, и нескончаемы будут холодные ступени под его босыми ногами. Он замедлит шаги, каждый шаг – шаг к смерти… И конвоир пощекочет его штыком… «Ступай, ступай, нечего!…» И, полураздетый, дремлет Роман в подвале екатеринбургской контрразведки.
Вдруг окрик: «Проснитесь!…» Романа тормошат. Но он не хочет просыпаться – ведь это его последний сон перед тем, самым последним.
Снова:
– Проснитесь! Проснитесь же!… – Романа тормошат. – Да проснитесь же, ваше сиятельство! По приказу суда я обязан немедленно доставить вас…
Роман понял.
– Сейчас, – говорит он. – Сейчас, сейчас, милый друг, сейчас…
Молодой офицер смотрит на Романа участливо. Он в первый раз видит князя Ватерлоо. И хотя князь – арестант, государственный изменник, молодой офицер констатирует уважение к Роману в казенной своей голове и жалость – в присяжном сердце.
И молодой офицер весьма недоволен собой.
А Роман решает, что, может быть, есть небольшое утешение в том, что расстрелян он будет из ружей «его изобретения», по приговору хоть какого ни на есть суда и все-таки, все-таки во Франции, в той самой, что ослепительным миражем вставала перед ним еще в том времени, в Москве, в маленькой комнатке на 2-й Тверской-Ямской, еще тогда, когда он жил в первый раз.


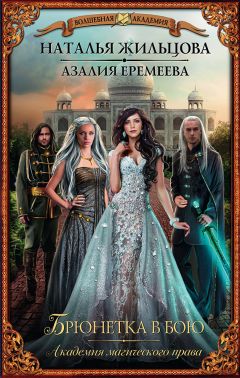
![Алина Борисова - По ту сторону Бездны[СИ]](/uploads/posts/books/1064/1064.jpg)
![Татьяна Зингер - Неудавшаяся история [СИ]](/uploads/posts/books/145167/145167.jpg)