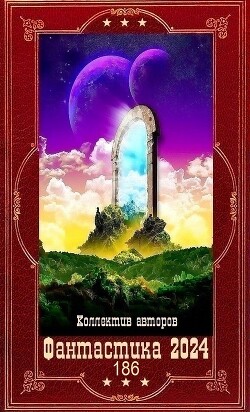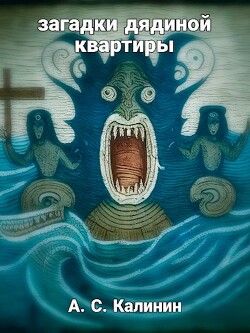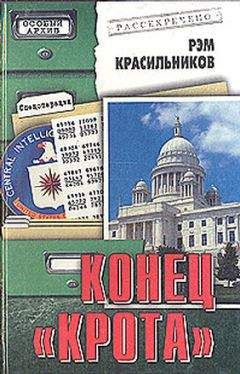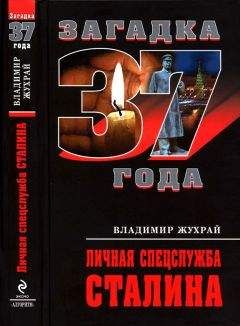Я уничтожил Америку. Назад в СССР (СИ) - Калинин Алексей
— Ну да, ну да, я слышал, что в вашем деле мозг был рабочим инструментом. Однако надо учитывать тот факт, что в СССР частенько важные вопросы решались за рюмкой горячительного. Вы как? Умеете правильно пить?
— Ни разу в жизни пьяным под забором не просыпался. Даже когда молодым и безголовым был, то всё равно до дома добирался. А как женился, так и вовсе завязал.
Профессор Степанов медленно прошёлся по кабинету взад-вперёд, его тень скользнула по дубовым панелям стен, словно маятник старинных часов. Хозяин особняка остановился у окна, за которым шелестели липы, и повернулся ко мне, поправляя пенсне:
— Очень рад слышать, очень рад… — его голос звучал, как шорох страниц в старинной библиотеке. — Но понимаете ли, любезный, в том времени, куда вы отправляетесь, «культурное питие» было не просто привычкой — это был своеобразный ритуал. Запомните: три рюмки — это разговор по душам, пять — откровенность, семь — опасная зона. Переступите эту черту — и вы уже не хозяин положения, а его заложник.
Я кивнул:
— Значит держаться в рамках «душевного» разговора?
Профессор вдруг оживился, его глаза заблестели:
— Именно! Но главное — никогда не отказывайтесь поднимать тост за партию. Даже если будете пить минералку — поднимите бокал. Это вопрос не веры, а выживания и продвижения. Чтобы видели, что вы верной дорогой идёте, товарищ.
Он подошёл ближе, и я уловил запах дорогого одеколона и книжной пыли:
— А теперь скажите мне, как вы поступите, если на банкете вас будут настойчиво угощать, а вам нужно сохранить ясную голову?
Я усмехнулся:
— Я знаю, что закусывать лучше жирным. Что рюмка водки срабатывается организмом за час, как бокал вина или пива. Что лучше двигаться, больше пить воды и не мешать напитки. И главное — не понижать градус.
Профессор вдруг рассмеялся, его смех напоминал скрип старого кресла:
— Браво! Вижу, вы действительно умеете приспосабливаться.
Он вдруг стал серьёзен:
— Алкоголь в том мире — это и меч, и щит, и петля на шее. Вы должны научиться обращаться с ним, как фехтовальщик с рапирой — изящно, расчётливо, всегда контролируя ситуацию. Потому что одно неверное движение… — профессор сделал паузу, — и вы уже не пьёте, а рассказываете всем напропалую, что будет в будущем.
— А что до генсеков? Как с ними в баньке не бухнуть? — подмигнул я.
— С ними самое опасное. Если доберётесь до верхушки власти, то нужно крепко-накрепко держать в уме, что сейчас вы находитесь рядом с тиграми, которые прогрызли себе путь наверх. Люди шли по головам и за свой путь успели насмотреться такого, что волосы порой встают дыбом. Тот же Хрущёв, как вы помните, был одним из партийных руководителей, кто присылал расстрельные списки. А потом принёс «Секретный доклад». Зачем вообще это было нужно Хрущёву? Он бы вполне мог без громких обличений начать без лишнего шума пересматривать дела репрессированных. Но нет. Невозможно постоянно говорить, что чего-то нет, когда это есть. И он очень сильно боялся, что появится кто-то другой, кто объявит об этом. А тогда Хрущёв сам окажется не в числе разоблачителей, а среди пособников Сталина, участвовавших в репрессиях. Он просто хотел опередить всех, потому что любой из Политбюро мог сказать: «Никита Сергеевич, а ты сам-то чем занимался? Кто подписывал расстрельные списки? А кто предложил устраивать публичные казни на Красной площади?» Ему сам Сталин на списках репрессированных, которые Хрущёв отсылал наверх, ставил резолюцию: «Уймись, дурак!». Это был настоящий бег наперегонки — кто быстрее объявит «страшную правду».
— Суровое было тогда время. Но меня-то отправляют в более поздний отрезок.
— Да, но надо учесть, что ваш отрезок времени ненамного отстоит от только что озвученного мной. И те же акулы продолжили плавать в очень мутной политической воде.
— Понимаете, любезный, — профессор задумчиво покрутил в пальцах карандаш, будто проверяя его на прочность, — ваша миссия тоньше, чем кажется. Эти партийные работники… За их улыбками скрывалась натура охотников. Банный день? Чистейшая проверка на вшивость. Там не столько пьянство проверяли, сколько умение держать язык за зубами, когда пар да водка расслабляют.
Он вдруг оживился:
— Возьмём Леонида Ильича. Обожал он компанию весёлых, но… — профессор щёлкнул пальцами, — переступи невидимую черту, и всё. Был у нас один номенклатурщик, на банкете разошёлся — рассказал похабный анекдотец про политбюро. Вечером был душой компании, утром стал пенсионером союзного значения.
Я свистнул:
— То есть каждая шутка как ходьба по минному полю?
— Точнее не скажешь! — профессор вскочил и начал расхаживать по кабинету. — Представьте себе: парная, все голые, как мать родила, водочка течёт рекой… Казалось бы — полная расслабуха. Ан нет! Именно тут-то и принимались решения, ломавшие судьбы. Недаром умные советчики шептали своим подопечным: «Товарищ, здесь даже стены имеют длинные уши».
— Выходит, банный день — это как допрос с пристрастием, только с веником и закуской?
— Ха! — профессор ехидно ухмыльнулся. — При допросе тебя хотя бы предупреждают, что ты можешь не свидетельствовать против себя. А тут… Пройдёте проверку паром — живите как сыр в масле. Оступитесь — пенсия на двести рублей в месяц с волчьим билетом. И помните, — он вдруг понизил голос до шёпота, — самое опасное не когда вы молчите, а когда вам показалось, что вы среди друзей.
Я посмотрел на него:
— Скажите, профессор, а сами бы вы хотели вернуть Советский Союз?
— Хотел бы я? — грустно усмехнулся он и задумчиво проговорил. — Он вкладывал в наши руки не готовые истины, а огранённые как алмаз вопросы, заставляя пальцы обжигаться о грани сомнений. Мы росли, как молодой лес после пожара — упрямо, криво, но неизбежно вытягиваясь к свету сквозь пелену собственного неведения. Годы текли, как речная вода, унося с собой юношеский максимализм. Мы обрастали регалиями, как старые дубы — лишайником, принимая позолоту наград за подлинную мудрость. А он молча наблюдал. Смотрел, зная, что настоящее понимание, как весенний лёд, приходит только с первыми оттепелями жизненного опыта. Он был странным садовником нашей судьбы. Посылал нас — эти неокрепшие ростки — то в душные аудитории, где ковался разум, то в жаркие цеха, где закалялась воля. Бросал в студёные воды северных строек и раскалённое пекло космодромов. Как сеятель, не жалеющий зерна, он разбрасывал нас по необъятным просторам, зная, что лишь в бороздах реального дела прорастёт характер. И характер прорастал… Так что да, я хотел бы, чтобы Союз вернулся, и чтобы сделал-таки человека будущего гораздо лучше чем то, что есть сейчас! Сейчас тоже люди замечательные, но… Я уверен, что потребительство и капитализм сломали и извратили многие судьбы. Мы перестали мечтать о звёздах, а начали грезить о каких-то коробочках, которые выходят каждый год новые! И это неправильно…
Не найдя, что ответить, я только поджал губы.
Я должен был заниматься неделю, но после просьбы о получении информации об Америке, обучение растянулось на ещё одну неделю. Сначала не хотели давать этой информации, но после разговора с Владимиром Владимировичем…
Обучение превратилось в настоящий марафон. Казалось, чем больше я узнавал, тем больше понимал, как мало на самом деле знаю. После запроса про Америку ко мне приставили нового инструктора — сухонького старичка с глазами, похожими на два рентгеновских аппарата. Он представился как «товарищ Николай», но я был почти уверен, что это не его настоящее имя.
— Вот вам базовый курс, — сказал он, кладя на стол папку с грифом «Совершенно секретно». — Политика, экономика, культура. Особое внимание — кинематографу и музыке. Вы должны знать «Битлз» лучше, чем свои пять пальцев, и разбираться в «Роллинг Стоунз» лучше, чем в марках советского пива.
Я открыл папку. Внутри лежали вырезки из западных газет, фотографии, даже какие-то рекламные проспекты. Всё это выглядело как артефакты с другой планеты.
— А язык? — спросил я.