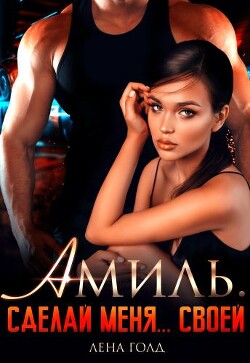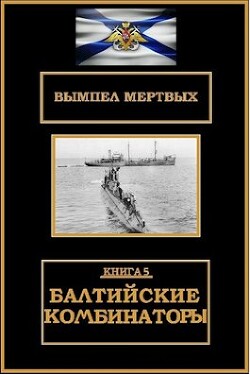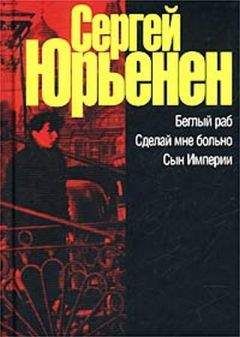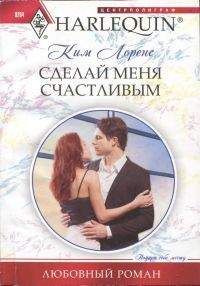Сделай сам 3 (СИ) - Буланов Константин Николаевич
Правда, на саму «кайзеровскую заимку» нас не пустили. В том смысле, что пожить. И так там места едва хватало для размещения всех тех, кто прибыл вместе с Вильгельмом за нумером 2. Так что селиться пришлось как раз в гостинице. Что оказалось даже сильно лучшим вариантом, так как организовать за нами постоянный присмотр даже не подумали.
Типа, ну живут там два каких-то русских фабриканта, удостоившихся великой чести предстать пред очи ажно самого кайзера при сдаче в его гараж новых автомобилей, и нехай живут. Так, всего-то один-два топтуна за нами наблюдали изредка. И на этом всё. В то время как в охотничьих угодьях вовсю шерстили егеря. Очень такие суровые егеря, знаете ли.
Я на них не единожды натыкался, когда в свободное от работы время выдвигался из посёлка в ближайшие леса на тихую охоту с лукошком и ножом наперевес.
А как ещё я смог бы разведать подходы к тому месту, где были воздвигнуты многометровые вышки, с которых высокородные охотнички и стреляли оленей с косулями, загоняемых под их выстрелы специально обученными людьми?
Да никак! Только топча местные леса с болотами своими ножками!
Благо хоть винтовку вышло припрятать, оставшись никем не замеченным. Я её родимую покуда скрывал в одном из ящиков с запасными частями к автомобилям, которых набралось немало. Можно сказать — на все случаи жизни собрали запас. Благо рессоры оказались достаточно длинными, чтобы сделать для них тару под размер изрядно залежавшейся у меня винтовочки. Вот и хранилась она до поры до времени в сарайчике вместе со всеми прочими деталями.
А границу она вовсе пересекала, будучи упрятанной под пассажирским сиденьем одного из автомобилей, которые никто не посмел вскрывать для осмотра. Всё же малый императорский герб, нанесённый на их двери, отпугивал от них таможенников, словно ладан чертей. Никто не посмел сунуть внутрь свой любопытный нос.
Я же, обкатывая автомобили по местным дорогам перед их окончательной сдачей заказчику, присмотрел себе неприметную рощу, кои были раскиданы сотнями тут и там, где впоследствии, при очередном пробном выезде, и прикопал неглубоко завернутую в промасленную холстину винтовку.
Потом скинул в другом месте оказавшийся лишним деревянный ящик потребных габаритов. А после, отправляясь за грибами, выбрал себе местечко, где за последующие 8 дней потихоньку устроил полноценный тайник.
Поработать ножками при этом, конечно же, пришлось. Да и нервы играли будь здоров! Чуть ли не ежесекундно опасался наткнуться на хитрый взгляд какого-нибудь местного шпика, выглядывающего из-за дерева как раз в тот момент, когда я обустраивал схрон. Но обошлось.
Теперь же оставалось лишь выждать время, да подготовить себе подобающий маскировочный костюм навроде кикиморы. Для чего я даже собрал полноценный гербарий из листьев местных деревьев, чтоб с цветами маскировки, значит, не ошибиться.
Да! Стрелять вот прямо сейчас, в мои планы не входило, дабы не наводить на себя подозрения во всём нехорошем. А то кто-то мог бы и подметить тенденцию гибели от рук неизвестного стрелка персон императорских кровей как раз в момент моего присутствия неподалёку.
Ведь, как известно, первый раз можно принять за случайность, второй — охарактеризовать совпадением, а вот третий уже превратится в закономерность. И жить мне после этого, боюсь, придётся не так долго, как того хотелось бы.
Так что заботливо подготовленная и упакованная винтовка с глушителем улеглись в прикопанном ящике до лучших времён, а я, выдохнув, завершил свои обязанности по передаче знаний с опытом сотрудникам кайзеровского гаража, да и убыл с чистой совестью домой вместе с папа́.
Дома как раз завершалась подготовка устава и процедуры оформления картеля «Продпаровоз» в качестве акционерного общества, что должно было контролировать внутри страны цены и распределение квот на все продаваемые в России паровозы. И наш ХПЗ играл в нём одну из ведущих ролей, поскольку являлся крупнейшим из всех в плане своих возможностей по ежегодному объёму выпуска таковой продукции.
А так как плевать против ветра в данной ситуации мы пока себе позволить никак не могли, пришлось и нам присоединиться к этой махине по высасыванию денег из казны.
И ведь поделать с этим ничего не виделось возможным! То же производство вагонов, рельс, стали, чугуна, угля уже не первый год контролировалось отдельными синдикатами с картелями. Про оптовую торговлю зерном, сахаром и чаем тоже даже говорить не приходилось. Там всё давно и без остатка было поделено без нас.
Да чего далеко ходить! Мы, Яковлевы, вовсе являлись самыми натуральными монополистами в деле изготовления тракторов и автомобилей. Во всяком случае, в России. Ибо было глупо считать конкурентами отдельные фабрики, что пытались хоть как-то протиснуться на этот рынок, изготавливая по пару десятков своих машин, а после откровенно проваливаясь с ними из-за низкого качества выделки при высочайшей цене.
В общем, монополии и картели — это, конечно, нехорошо для государства, не говоря уже о конечном потребителе. Однако же деваться нам тут было некуда. Наживать себе врагов среди заводчиков ещё и на этом фронте, мы уж точно не желали. А что до вылезающих в связи с этим проблем государства… То была забота «государственных мужей», но уж точно не какого-то отдельного инженера-технолога, то бишь меня.
Впрочем, не только проделывать очередную дыру в кармане государственного бюджета предстояло нам. Ждали своего часа, а также нашего с отцом возвращения, и куда более радостные события.
Что называется, непрерывное и своевременное финансирование могло творить чудеса даже в отечественном судостроении. Так, даже двух лет не прошло с момента закладки, как уже был подготовлен к спуску на воду корпус броненосного крейсера «Яковлев»! Что с учётом российских реалий и революционной ситуации 1906–1907 годов можно было считать почти что подвигом занятых на его постройке кораблестроителей.
Мы изначально предполагали, что будем закладывать его в большом каменном эллинге «Балтийского завода», однако там слегка подзастрял корпус последнего отечественного эскадренного броненосца — «Императора Павла I», отчего пришлось согласиться на его постройку в схожем по габаритам эллинге Галерного островка. Всё равно более нигде в России построить бы его не вышло. Слишком уж здоровым он выходил, ежели судить по старым кораблестроительным меркам. Причём здоровым, что по водоизмещению, что по физическим габаритам. Он даже выпирал за пределы эллинга на десять метров по носу и корме, столь длинным оказался.
И вот уже наступал момент, чтобы разбить бутылку о его форштевень, да отправить корпус на последующую достройку уже на плаву. Как говорится — ждали только нас. Не просто же так корабль гордо нёс такое название!
Выделенные на его постройку 17 миллионов рублей сделали своё дело, позволив увековечить нашу фамилию в анналах отечественного военно-морского флота. Не одним ведь только грекам — Авероффам, профинансировавшим, кстати, всего-то ⅓ часть постройки схожего крейсера для Афин, бравировать подобным достижением. Мы тоже заслужили так-то! Потому, пока мы ехали домой, мама́ вовсю готовилась стать крёстной матерью сильнейшему крейсеру Российского Императорского Флота.
Да, пусть его прототип вовсю проходил сдаточные испытания у берегов Туманного Альбиона, нам уже были известны, как его недостатки, так и недостатки того же «Дредноута». И это в полной мере оказалось учтено в постройке «Яковлева». Что и обещало сделать его наиболее зубастым из всех наших крейсеров.
Так, вместо пары 9-футовых дальномеров, на нём предполагалось установить полдесятка 15-футовых. К той паре, что размещались в боевых рубках, добавлялись по одному в каждой башне.
Из состава паровых турбин исключались те, что отвечали за экономичный крейсерский ход. Больно уж паршиво они показали себя на новейшем английском линкоре, постоянно выходя из строя, отчего машинная команда «Дредноута» в конечном итоге научилась обходиться без них и сами англичане на новых кораблях их не планировали ставить. Это в свою очередь позволило нам заблаговременно снизить общий вес турбин крейсера аж на 130 тонн! И удешевить, конечно.