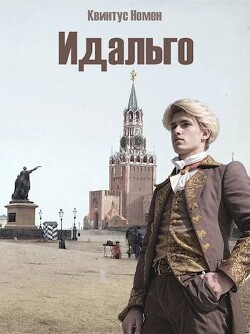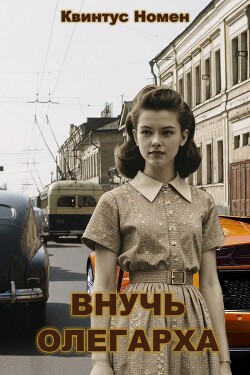Олегархат районного масштаба (СИ) - Номен Квинтус
— Задам вопрос строго противоположный: а кроме Славгорода нам прессы кто-то изготовить может? Иностранцев не предлагать.
— Разве что с Сараной договориться. Они, конечно, таких больших прессов не делали еще, но сказали, что постараются. Однако сколько они стараться будут, никто там сказать не может. С другой стороны, народ там работящий, руки из нужного места растут, и если им дополнительно некоторые станки поставить…
— Список станков есть?
— Завтра будет.
— Что-то особо дефицитное?
— Как раз нет, но тамошний главный инженер особо просил, чтобы никакой иностранщины не было. С нашими-то там мастера хорошо знакомы, а вот с иностранными… у них трофейных несколько станков есть, германских — так они почти все время в простое. Потому что ремонтировать их просто некому…
— А говорите, что руки там из нужных мест растут… у нас где-то нужные станки есть? Я имею в виду, если временно им наши в пользование передать, чтобы не ждать долго.
— Там наша узкоколейка почти рядом идет, так что вы правы, проще будет пока отдельные детали у нас в механическом делать и в Сарану из Приозерного возить: прессов-то нам всего четыре нужно.
— Ну да, в Красноуфимск и Большеустьинск четыре, но нам они еще нужны в Благовещенск и Ряжск.
— В Благовещенск уже прессы пришли, мне Игнат… товарищ Буров говорил. А какие ему пришли и какие в Ряжск нужны, я просто не знаю, так что подойдут ли туда Сарановские, не скажу: нам-то все же не самые большие требуются. Но если и в Ряжск в планах славгородские поставлены, то я бы посоветовал нужные где-то еще поискать.
— Спасибо, я, пожалуй, так и сделаю. А насчет того, чтобы Славгород под Комитет забрать, я подумаю…
— Тут и думать нечего: там сейчас и новый радиозавод потихоньку работает, его тоже под комитетские производства приспособить нетрудно будет, другие для Комитета нелишние предприятия.
— Но ведь мало просто заводы в управление взять, ими ведь и управлять нужно будет.
— А вы и с ними справитесь. Я с каждым днем все лучше понимаю, почему именно вас он назначил принимающей окончательное решение: вы всегда успеваете все заранее продумать и решить, что будет в любой возможной ситуации наилучшим. Так что вы просто решите, а исполнителей мы подберем. И подберем лучших, с таким-то отделом кадров…
Брать на себя еще целый город у меня ни малейшего желания не было, тем более что заводы в Славгороде подчинялись разным министерствам и еще с ними бодаться из-за передачи их в Комитет мне не хотелось совершенно. Тем более, что вся проблема упиралась в десяток прессов, которые (чисто теоретически) можно было заказать почти где угодно. А практически — сразу после моей жалобы начальнику ко мне с предложением вышли ивановские станкостроители, и вопрос с прессами мгновенно решился. Причем относительно малой кровью: ивановцы с меня взамен попросили выстроить в городе новую больницу и два детских сада. А так как дед уже успел договориться о предоставлении рабочей силы с корейцами…
Кстати, я узнала, почему меня так жарко возжелал наградить товарищ Ким: он как раз в Москву с визитом приехал и мне с ним пришлось встретиться на переговорах относительно возможности постройки там завода радиоаппаратуры. Транзисторной, и отдельно завода по производству полупроводников для первого завода. Собственно, ничего сложного в поставках корейцам нужного оборудования не было, тем более что их пока производство микросхем не заинтересовало, так что переговоры были недолгими. И вот после переговоров он, когда ему кто-то сказал, что «эта молодая женщина и придумала ракеты на проводах», сказал, что «за изобретение провода к ракете корейское правительство решило наградить изобретателя высшим орденом». И не потому, что им так ПТУРы понравились: им очень понравился лавсан, из которого кабель и делался. Советский Союз в Корее даже завод химический выстроил, на котором лавсан производился, а химия — она мелких партий продукции чаще всего не допускает, так что ниток лавсановых у корейцев стало много. А скоро стало много и одежды из лавсановых тканей — а так как с хлопком в Корее было очень плохо, то половина страны именно в лавсан и приоделась (а без него, как я поняла из восторженного рассказа корейского руководителя, они ходили бы вообще голышом). Ну я-то товарищу быстро объяснила, что к ниткам отношения не имею и лишь в разработке рулевых машинок поучаствовала, так что осталась без корейского ордена. Но у меня сложилось впечатление, что лишь пока…
Потому что мы за недолгий разговор успели договориться и об определенной «совместной деятельности»: товарищ Ким пообещал увеличить вдвое поставки меди на завод в Спасске-Дальнем (то есть поставлять вдвое больше, чем нужно было для производства генераторов для Кореи), а взамен оттуда должно было пойти в Корею вдвое больше «дровяных» электростанций по два мегаватта. Да, угля в Корее было много, но вот с добычей его было довольно сложно: шахтам просто электричества не хватало для работы, потому что электростанций не хватало. А насчет именно «дровяных» разговор шел лишь потому, что там и дровяные котлы делались (с советской автоматикой), но они и угольные котлы тоже прекрасно делать умели — а турбине-то плевать, чем пар в котле греется. Однако автоматика и для угольных котлов требовалась, а товарищ Ким прекрасно понимал, что даже при всем желании в обозримое время Корея для себя ее изготавливать не сможет — так что нам было о чем договариваться. Что же до пары тысяч дополнительных строительных рабочих на сезон — это ему обеспечить было уже совсем просто.
Вообще мне товарищ понравился тем, что он даже не пытался изобразить, что «он все знает», но с большим интересом расспрашивал о том, что может принести государству пользу. И я в разговоре по поводу возможности строительства в Корее собственного завода телевизоров упомянула, что, допустим, в Карачеве производство кинескопов ведется с использованием «попутного газа», которым стекловарные печи снабжает местное сельское хозяйство. Собственно, там и завод было решено строить потому, что газ там появился в достаточном количестве — с самого крупного пока в стране газового завода, работающего на отходах сельского хозяйства. В метановые танки там сваливался навоз с животноводческих ферм, ботва всякая, на корм скотине непригодная (вроде картофельной), прочий мусор и та же солома перемолотая, содержимое выгребных ям и отстойников канализации — и каждый танк емкостью в двести пятьдесят кубометров ежесуточно производил более тысячи кубов газа. Не очень-то и много, но танков на Карачевском заводе было шестьдесят штук, и заводик давал по семьдесят пять тысяч кубов чистого метана (а котел, сжигающий вонючую часть газа, еще и мегаватный генератор запитывал, обеспечивающий энергией всё производство).
Правда, для заполнения этих танков дерьмо аж из Брянска возили, а сельхозотходы вообще с половины области — но оно того стоило. Особенно учитывая, что грузовики, поставляющие сырье на завод, были переделаны на работу на газе, а после того, как все содержимое танка из себя газ исторгнет, там остается прекрасное удобрение для полей. Правда, за дополнительным деталями я посоветовала товарищу Киму обратиться к специалистам, причем не лично — но было видно, что его получение топлива из дерьма прилично так вдохновило.
Но меня вдохновляло другое: у Челомея началось уже изготовление нового модуля для «Алмаза». Простенького такого модуля, представляющего из себя, если в детали не вдаваться, пятиметровую трубу метрового диаметра, вокруг которой при запуске в сложенном виде упакованы солнечные батареи общей площадью за сотню метров. Потому что установке для зонной плавки требовалось примерно двадцать киловатт мощности, а все уже стоящие на станции батареи давали только семь. И с каждым днем они давали все меньше, все же деградация нынешних кремниевых элементов в условиях космоса и жесткого ультрафиолета шла очень быстро. Например, спутники серии «Молния» сдыхали уже через полгода, и сдыхали они исключительно потому, что у них «электричество заканчивалось». У меня в Комитете сразу две группы пытались решить проблему быстрой деградации батарей, но пока успеха они не обрели…