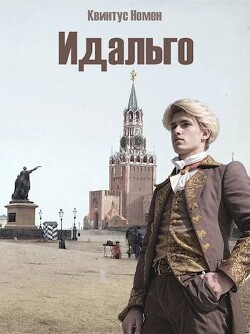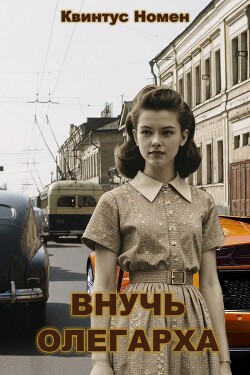Олегархат районного масштаба (СИ) - Номен Квинтус
— Всегда вы так, что ты, что он… а тогда зачем мне ты все это притащила?
— Потому что нужно еще будет что-то по галлию принять, но я об этом просто ничего не знаю, а с РедМетом кроме как вам, никому договориться не получится.
— Ладно, займусь… А когда ты ко мне с новыми проектами придешь?
— Как инженеры Комитета что-то новое придумают. Но это не от меня зависит.
— А от кого тогда?
Глава 22
Николай Семенович Патоличев к запросам руководительницы КПТ на закупку всякого иностранного оборудования относился весьма трепетно. Потому что суммы там фигурировали, как правило, довольно небольшие (последний заказ вообще на шестнадцать миллионов западногерманских марок был), а буржуи станки (простые, к поставкам в СССР не запрещенные) изготавливали очень быстро. А Федорова так же быстро начинала из этих станков извлекать пользу для Советского Союза, обеспечивая промышленность самыми что ни на есть передовыми технологиями. И ведь эти технологии не только по полупроводникам были, иногда складывалось впечатление, что КПТ вообще все, что угодно, переводит на новый уровень!
Вот, например, передали в КПТ несколько лет назад чугунолитейный заводик, расположенный тут же, на Соколе, и обеспечивающий Москву чугунными отопительными батареями. Федорова заводик чуть ли не полностью снесла и выстроила там что-то новое, «передовое» — а теперь завод этот, причем «где-то в уголке», в одном новом небольшом цеху, батарей выпускал почти втрое больше прежнего. И именно «передовых батарей», алюминиевых. Правда только этот цех жрал электричества, по словам той же Светы, как электрическая свинья, потребляя больше, чем раньше на весь завод тратилось — но в Москве с электричеством уже проблем не было, а новые батареи…
Когда товарищ Струмилин говорил, что «в СССР даже производство металлорежущих станков измеряется в тоннах», он не сильно-то и лукавил: ведь нужно было и тонны металла привезти, и станки (тоже очень тяжелые) куда-то на заводы отвезти. И на перевозку всякого с места на место тралились огромные деньги, а с этими батареями «средняя квартира» полегчала на несколько центнеров, а по стране, где квартиры миллионами строились, цифры экономии горючего уже начинали внушать уважение. Но ведь кроме алюминиевых батарей завод стал производить и много другого разного, очень «перспективного и технологичного». Очень дорогого — но там же только экспериментальные образцы всякого оборудования делались, а затем его передавали для серийного производства на другие заводы — и эффект от внедрения разработок КПТ с лихвой перекрывал все расходы. Чаще всего покрывал, все же случались в Комитете и неудачи (и тоже весьма дорогостоящие), но в целом Комитет, по мнению уже Николая Александровича, был «самым прибыльным предприятием страны».
Впрочем, и все «дочерние» предприятия, которые Комитетом создавались, отлаживались и передавались в отраслевые министерства, были не менее «прибыльными», тот же котельный завод в Красном Холме как раз в апреле поставил на стройку новой электростанции пятидесятый «дровяной» котел под турбогенератор в двадцать два мегаватта. То есть один-единственный завод с менее чем тысячью рабочих дал стране за пару лет тысячу сто мегаватт электрической мощности! Ну да, не один он столько дал, три завода еще турбины для этих электростанций изготовили, а другие три — генераторы. И очень много прочих предприятий изготовили кучу дополнительного, но абсолютно необходимого оборудования — но ядром всех этих электростанций стали как раз краснохолмские котлы, вообще не потребляющие «традиционное» топливо!
И подобных «перспективных разработок» Комитет вел настолько много, что все их и отследить было невозможно. Собственно, поэтому Николай Семенович их и не отслеживал: он был убежден, что прибыль в том или ином виде от любого проекта Комитета рано или поздно появится (причем скорее всего именно рано), а что там будут производить конкретно — об этом будет не поздно узнать и когда это производство заработает, ведь Светик не будет же прятать произведенное в каких-то своих тайных закромах? Обязательно притащит и покажет, что она на этот раз придумала. Или не она, а кто-то из ее специалистов: хотя в Комитете и ходили слухи, что все там придумывает именно Светлана Владимировна, Николай Семенович точно знал, что в большей части разработок Комитета она разбиралась чуть ли не меньше, чем вахтеры у входа в здание. Впрочем, там и вахтеры тоже были далеко не самые простые…
Подготовка к пуску сразу двух автомобильных заводов отнимала кучу ресурсов Комитета и кучу моего личного времени — просто потому, что оба завода должны были продемонстрировать (в том числе и руководству страны), что же такое на самом деле представляют эти самые перспективные технологии. Пока что всего лишь на одном участке каждого завода, а в очень скором времени и на нескольких: станки с ЧПУ для моторных производств ожидались поставкой не раньше следующей весны и тут уж ничего с белорусами сделать было невозможно, они и в этот срок вряд ли могли уложиться. А вот роботы для сборочных конвейеров делались на «придворном» заводике КПТ, расположенном буквально «через дорогу» от здания Комитета, и теперь там изрядная часть инженеров буквально девала и ночевала.
Конечно, пока что роботы целиком автомобиль собрать были не в состоянии, но вот провести сборку и сварку кузова они уже были в принципе способны. Только пока лишь «в принципе»: по плану только на авторемонтный в Ряжске требовалось поставить чуть меньше сотни манипуляторов, а в металле удалось изготовить меньше двух десятков. Всего же на кузовные конвейеры предполагалось поставить порядка трех сотен роботов (это включая цеха покраски), и для полного укомплектования цехов роботы требовались пяти разных моделей — так что заводы готовились к пуску «в полуручном режиме», но и тут работы было просто невпроворот.
А самой сложной работой было составление программ, управляющих всеми этими роботами, и мне сильно повезло, что КПТ получил право приоритетного отбора выпускников институтов. А право организации новых предприятий (и институтов, только научных, а не учебных) у Комитета и изначально было. Так что по просьбе мужа был организован «Московский институт средств программирования вычислительной техники», который ему пришлось и возглавить — хотя он, когда об этом узнал, ругался почти неделю. Но я ему «поставила в пример» Челомея и Мясищева, которые «без отрыва от производства» руководили кафедрами в институтах, объяснила важность стоящих перед институтом задач и их объем — и он «предложение принял». Хотя на самом деле ему никто ничего и не предлагал, Николай Семенович просто издал приказ о его назначении и на этом дело закончилось.
А я перед началом сессии снова встретилась с дедом: он приехал в Москву, чтобы лично проконтролировать отгрузку германских станков в Красноуфимск и Большеустьинск. Немцы его заказ выполнили исключительно быстро (и я подозреваю, что они откуда-то из загашника уже готовые станки повытаскивали, по крайней мере часть из них), так что половина оборудования заводов уже была готова. Но вот с другой половиной (отечественной) все пока «шло по плану», и хуже всего шло по плану Славгородского завода кузнечно-прессового оборудования. Так что дед приехал в основном не для того, чтобы посмотреть, как большие ящики перекладывают со склада в вагоны, а чтобы обсудить со мной «меры воздействия на славгородцев». Меры, для предприятий Комитета уже традиционные — вот только они, по мнению деда, там «не работали»:
— Вы, Светлана Владимировна, даже не представляете, насколько там все запущено! Никому ничего не надо, на заводе производственные мощности хорошо если наполовину загружены — и всем плевать! Я предлагал руководству завода помощь в строительстве жилого фонда — так им и это не нужно! Там город-то небольшой, меньше сорока тысяч народу, и в основном это частный сектор — так я предложил профсоюзу поставку в город отопительных котлов на пеллетах, так как там соломы много выращивают — так им и этого не надо… я даже не знаю, что и делать. Разве что весь город под Комитет забрать и там все руководство сменить…