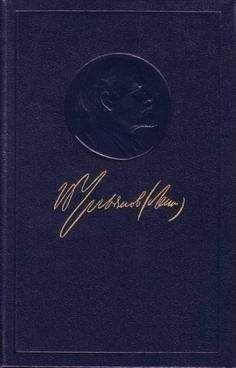Вильгельм Зон - Окончательная реальность
По легенде. Белый казачий офицер Абрам Ермаков очухался от тифа в апреле 1920 года и понял, что опоздал. Белые эвакуировались из Новороссийска в Крым. К Врангелю было не пробраться. Не желая оставаться под большевиками, решил двигаться в Забайкалье к атаману Семенову, с которым познакомился в 16-м году на Румынском фронте. Путь оказался длинным и опасным. Теплушки, платформы, кое-где и крыши вагонов, но добрался. И вовремя! В середине октября Семенов проводил в Чите Казачий съезд. Атаман Семенов Ермакову не глянулся. Зато «глянулся» барон фон Унгерн.
Встретив Ермакова в Китае, советский резидент Владимиров вкратце изложил ему легенду и вручил машинописный текст:
– Это ваши мемуары, Абрам Пантелеевич, здесь все описано подробно, постарайтесь заучить наизусть.
– Мемуары? – удивился Ермаков. – А что это за слово такое, первый раз слышу.
Владимиров поморщился.
– Воспоминания, путевые записки… По легенде, вы все-таки человек, не чуждый культуры, душеприказчик Крюкова, находитесь под огромным впечатлением от его романа. Вы роман-то хоть прочитали?
– Да, роман мне понравился.
– Ну вот, видите, я подготовлю вам еще книги – Толстого, Чехова, Майн Рида. Необходимо повышать свой уровень, это важно. У вас будет время, почитайте, пожалуйста, это необходимо.
– Хорошо, обязательно.
22Для начала Ермаков проштудировал «свои» мемуары. Интересно.
«Унгерн оказался именно тем человеком, который был так необходим мне в тот период. Среднего роста блондин, с длинными опущенными по углам рта рыжеватыми усами, худой и изможденный с виду, но железного здоровья и энергии, он буквально жил войной. Казалось, Унгерн специально создан для эпохи чудовищных потрясений.
Презирая устав и правила службы, оборванный и грязный, барон спал всегда на полу, среди казаков сотни, ел из общего котла и, будучи воспитан в условиях культурного достатка, производил впечатление человека, совершенно от него отрешившегося.
Оригинальный и острый ум сочетался в нем с поразительно узким, иногда до чрезвычайности узким кругозором; застенчивость – с безумной необузданной вспыльчивостью; не знающая пределов расточительность – с удивительным отсутствием самых элементарных требований комфорта.
Именно с ним я покинул Семенова, а затем, в ноябре 1920-го, перешел монгольскую границу и уже в феврале 1921-го, снова с шашкой в руке, ворвался в Ургу.
Барон Унгерн фон Штернберг! Избранный «Высшими Неизвестными» диктатор Монголии: «Мы воссоздадим державу Чингисхана, мы сумеем противостоять западной культуре и мировой революции». Великий человек! Он окружил себя гадателями и астрологами, встречался с философами. Принимал, в частности, германскую делегацию.
Кто-то советовал ему двигаться на юг к Тибету, в сторону загадочной страны Шамбалы. Кто-то посоветовал совершить ошибку…
В мае 1921-го с 10-тысячным отрядом Унгерн вторгся на советскую территорию. Части РККА оказались готовы к вторжению. Усиленные красными монголами Сухэ-Батора, они нанесли Азиатской армии генерала Унгерна непоправимый ущерб. Неся большие потери, вынуждены мы были вновь возвратиться в Монголию. Но не суждено уже великим планам воплотиться, не прощают ошибок «Высшие Неизвестные». На других обратили они свой взор. Остатки наших войск погибли юго-восточнее Урги. Долго еще монгольские степи будут помнить горечь этого поражения. Барон фон Унгерн был захвачен красными отрядами Рокоссовского и расстрелян 15 сентября 1921 года в Новониколаевске».
23– Занимательные мемуары, – сказал Ермаков Владимирову, когда тот привез обещанные книги, – где вы нахватались фактов?
– Работал в штабе Унгерна, было время.
– А где писать так научились?
– Хо! – усмехнулся Владимиров. – В пресс-службе Колчака, Абрам Пантелеевич, там быстро учили бойкости пера.
– Не вы ли посоветовали несчастному барону двигаться не в Шамбалу, а в совок?
Владимиров скромно опустил глаза, легкая улыбка коснулась его красиво очерченных губ.
24Согласно «мемуарам», Ермаков бежал в Китай. Мыкался, работал железнодорожным рабочим, а с 24-го года обосновался на окраине Харбина в маленькой квартирке, где вел жизнь уединенную, занимаясь литературным творчеством. Откуда взялись средства на столь благообразное существование, в мемуарах прямо не говорилось. Лишь вскользь намекалось, что где-то на просторах Маньчжурии улыбнулась Ермакову удача – то ли клад нашел, то ли ограбил кого.
Подробно говорилось зато о другом: о том, что через все невзгоды и скитания пронес и сохранил Ермаков священную для всего казачества правду о судьбе великого романа, рукопись которого находилась теперь в руках большевиков.
«Тихий Дон» – было написано в мемуарах – это великая книга ХХ века. Она как никакая другая с поразительной глубиной и правдой выразила подвиг и трагедию донского казачества, заключенные в самом крупном историческом событии со времен Отечественной войны 1812 года – русской революции.
Но «Тихий Дон» трагичен не только по своей художественной сути и историческому пафосу. Трагична судьба самого романа и его автора: на смертном одре был похищен у Федора Крюкова труд его жизни. Похищен красным дьяволенком, задумавшим переделать, переписать, переиначить казачью душу».
25Дальнейший план Владимирова выглядел следующим образом. Автор мемуаров Ермаков пытается опубликовать свои записки. Это оказывается непросто в наводненном советскими агентами Харбине. Ермаков подвергается нападению и еле-еле остается жив. После нападения отправляется в Шанхай. Там его ждет встреча с неким немецким аристократом, готовым выкупить мемуары и опубликовать в Европе. Во время встречи аристократ предлагает Ермакову отправиться вместе с ним в путешествие.
Надо ли говорить, что немецким аристократом на самом деле являлся резидент Владимиров. В конце 26-го года в Москве приняли решение о переброске его в Германию. Нацистская партия усиливалась, вероятность прихода Гитлера к власти повышалась. Курировать Дальний Восток оставался Зорге. Владимиров через Сидней и Нью-Йорк переправлялся в Берлин. Не столько экономя бюджет, сколько думая об эффективности, в ОГПУ решили убить одним выстрелом двух зайцев: попросили Владимирова захватить с собой неопытного Ермакова.
26Сначала гонконгский отель «Лондон», потом немецкое консульство в Сиднее, затем Нью-Йорк и, наконец, Берлин. Везде, где было возможно, Ермаков распускал слухи об украденном романе. Постепенно у него появлялась кое-какая репутация. В Берлине Владимиров помог организовать встречу с эмиссаром генерала Абрамова Голубинцевым. Голубинцев «узнал» бывшего сослуживца Абрама Ермакова. Раскрыл объятия. Не чуждый литературы, был поражен рассказом о великом романе. Предложил Ермакову ехать с ним на Балканы.
Здесь пути кадрового советского разведчика Владимирова и начинающего карьеру Ермакова расходятся. Владимиров остается в Германии, готовя взлет своей фантастической судьбы, Ермаков в компании Голубинцева направляется в штаб генерала Абрамова.
27Витицкий был доволен, все прошло как по маслу. Первый этап завершен, начинается следующий.
Журнал «Октябрь» уже наметил дату первой публикации. Текст получился на славу. Скандал неизбежен. Чтобы не перегнуть палку, Витицкий решил публикацию четвертого тома несколько отодвинуть, иначе все будет слишком уж однозначно. Дочитав вчера последнюю страницу и поставив резолюцию «В печать», он долго и неподвижно сидел, глядя в окно: любовался зданием Исторического музея, живописной улицей Охотный Ряд, стремящейся мимо церкви Параскевы Пятницы наверх к Лубянке. Налюбовавшись, Витицкий запер готовую рукопись в сейф, простился с Серафимовичем и уехал.
28Той ночью Шолохов не спал. Он вдруг ощутил себя велосипедной камерой, в которой гниет ниппель. В процессе гниения его огромный талант, словно воздух, все быстрее и быстрее улетучивался из когда-то твердых шин. Теперь, на пороге славы, он редко пробовал писать что-то новое, свое, но когда пробовал, получалось все хуже.
Наверное, в инстинктивной надежде залатать дырку он вошел в просторный номер на четвертом этаже Первого Дома Советов.
Серафимович храпел на диване. В последнее время он пристрастился дрыхнуть на рабочем месте – слишком много дел. Шолохов неслышно приблизился. Обшарив карманы, нашел ключ от сейфа. Открыл, достал рукопись. Быстро перекладывая знакомые листы, нашел нужное место. Решение пришло накануне. Шолохов понял, что хочет оставить в рукописи знак – знак, который, возможно, когда-нибудь в будущем натолкнет пытливого исследователя на верный путь, даст ключ к немыслимой разгадке.
Вот здесь, шестая часть, конец XXХV главы. Он выдернул лист. Будто собираясь обнюхать, поднес к лицу:
«Вестовой (Григорий взял в вестовые Прохора Зыкова) подал ему коня, даже стремя поддержал. Мелехов как-то особенно ловко, почти не касаясь луки и гривы, вскинул в седло свое сухощавое железное тело, спросил, подъезжая и привычно оправляя над седлом разрез шинели: