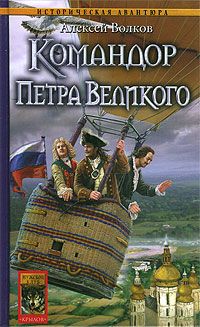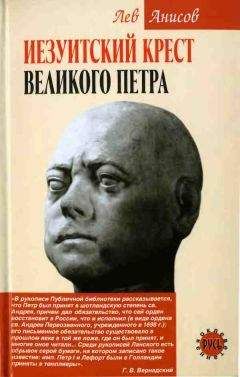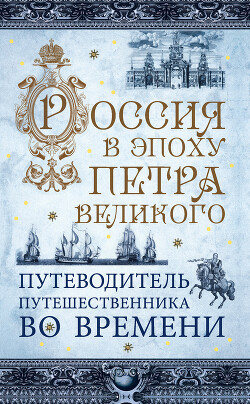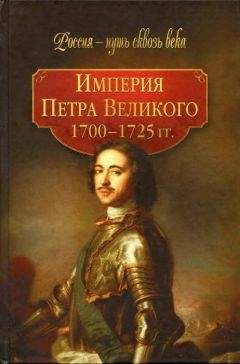Инженер Петра Великого (СИ) - Гросов Виктор
Он развернулся и, не дожидаясь ничьих ответов, стремительно вышел из мастерской. Брюс едва заметно улыбнулся и последовал за ним. Орлов подмигнул мне. Шлаттер стоял с таким видом, словно его самого сейчас просверлят на этом станке.
А я стоял посреди своей мастерской, рядом с этим монструозным, но работающим станком. Меня накрыло волной облегчения и какого-то пьянящего восторга.
Получилось! Царь одобрил! Дал карт-бланш! Теперь можно было развернуться по-настоящему! Работы предстояло — море. Трудностей — еще больше. Но теперь — путь открыт.
Глава 21
Ну что сказать, после того как сам Царь мою сверлильную «шарманку» одобрил, да еще и приказал завод перестраивать, жизнь моя на Охте перевернулась окончательно. Если раньше ко мне относились со смесью страха, зависти и недоверия, то теперь — чуть ли не как к царскому любимчику. Полковник Шлаттер при встречах чуть ли не в пояс кланялся, на «вы» перешел, спрашивал подобострастно, «не угодно ли господину фельдфебелю» того или сего. Снабженец Лыков, хмырь, который кровь мне портил, теперь бегал впереди собственного визга, доставая по первому требованию и лес получше, и железо почище. Конечно, воровство и бардак на заводе никуда не делись, это система, ее так просто не сломаешь, но лично мне кислород перекрывать перестали. По крайней мере, пока.
Дали мне под мастерскую еще две соседние каморки, выселив оттуда каких-то писарей. Выдали ключ от небольшого склада рядом, где я мог хранить самые ценные материалы и инструмент под замком. Солдат-охранников у входа в мой закуток прибавилось — не то для моей защиты, не то для надзора, хрен поймешь. Но работать стало вольготнее, это факт.
И я окунулся в работу с головой. Теперь у меня было сразу несколько дел государственной важности. Во-первых, доводка и копирование сверлильного станка. Царь велел двадцать штук «еще вчера», что, конечно, было фигурой речи, но намек ясен. Надо было срочно готовить нормальные чертежи (мои каракули на бересте для серийного производства не годились), обучать мастеров сборке, решать кучу мелких технологических проблем, которые вылезали на каждом шагу.
Во-вторых, проектирование «образцового» заводского участка. План, который я показывал Брюсу, был лишь наброском. Теперь надо было всё детализировать: рассчитать фундаменты под печи и станки, продумать конструкцию зданий, систему трансмиссий от будущего водяного колеса, вентиляцию, освещение… А главное — снова и снова биться над сметой, пытаясь упихать все мои «хотелки» в те скудные средства, которые казна реально могла выделить. Это была муторная, бумажная работа, но без нее вся затея осталась бы прожектом.
В-третьих, и это захватывало меня, пожалуй, больше всего, — разработка новых боеприпасов и тактических примочек, которые я нагляделся на фронте. Теперь у меня был негласный мандат от Брюса этим заниматься. Я достал свои фронтовые записи, сделанные урывками, под грохот канонады, и начал их систематизировать, превращать из сумбурных наблюдений в конкретные технические задания.
Картечь. Простая, казалось бы, штука, а сколько жизней может спасти, остановив вражескую атаку в упор! Я рисовал эскизы стандартных зарядов — в жестяных цилиндрах, с определенным количеством и размером чугунных шариков (или даже просто нарубленных металлических отшметков, если чугуна не хватит). Прикидывал, как их лучше запечатывать, чтобы порох не сырел и заряжать было удобно. Надо было провести опытные отстрелы, подобрать оптимальный вес заряда и размер дроби для разных калибров пушек, чтобы и разлет был что надо, и ствол не подуло.
Гранаты ручные. Вот где был простор для фантазии! Корпус — небольшой чугунный шар, полый внутри. Это отлить несложно. Заряд — порох. А вот запал… Я перебрал десятки вариантов. Фитиль? Ненадежно, горит неравномерно. Терочный? Самое то, но как его сделать из местных материалов? Я вспоминал химию, думал про бертолетову соль, про серу, фосфор… Фосфор! Кажется, алхимики уже умели его получать в мизерных количествах. Может, попробовать раздобыть через Брюса? Или самому попытаться «похимичить»? Опасно, конечно, но игра стоила свеч. Пока же, как временный вариант, я разрабатывал более надежную конструкцию фитильного запала — с гильзой, предохранителем, чтобы случайно не сработал. Хотя справедливости ради в армии уже есть гренадеры, но там устройство — мама родная. Еще и взрывается через раз.
Бомбы для мортир и гаубиц. Та же проблема с запалом. Деревянная трубка — это прошлый век. Нужна металлическая, с точно отмеренным пороховым составом, который горит стабильно и предсказуемо. Я прикидывал конструкцию такой трубки, думал, как обеспечить герметичность и надежность воспламенения.
Еще нужно будет подумать по поводу пороха — это огромная проблема, тут моих знаний может не хватить.
И окопы! Да, это не железо, но это жизни солдат! Я снова и снова рисовал схемы полевых укреплений — не просто ямы, а профилированные траншеи с брустверами, с ходами сообщения, с укрытиями от шрапнели. Понимал, что внедрить это в армии будет сложнее, чем построить станок — тут косность мышления военных командиров надо было ломать. Но решил подготовить подробную записку для Брюса и Орлова — с расчетами, сколько земли надо вынуть, сколько людей потребуется, но и с выкладками, насколько уменьшатся потери. Может, и пробьет.
Люнеты, флеши, редуты: Прекрасные сооружения! Но они — опорные пункты. Окопы же могут стать непрерывной линией обороны, связывая эти пункты, защищая фланги, создавая сплошной фронт огня и препятствий. Одно другому не мешает, а дополняет!
Ядра, скачущие по земле, косят ряды в линии. Но земляной бруствер окопа поглотит ядро или значительно ослабит его удар! Окоп — лучшая защита от артиллерии, чем просто стояние на месте!
Да, стоя во весь рост с полутораметровой фузеей в узком рву неудобно. Но можно сделать окоп шире, с отлогостями или тем же банкетом. Солдат может присесть или встать на колено под защитой бруствера для перезарядки. Это медленнее, чем стоя? Возможно. Но безопаснее! А мертвый солдат не перезаряжает вовсе.
Работа кипела. Мои пацаны — Федька, Ванюха, Гришка — уже вполне толковые помощники, каждый на своем участке. Федька корпел над чертежами, Ванюха помогал слесарям с подгонкой деталей для станка, Гришка вместе экспериментировал с ковкой и закалкой пружин для замков. Старик Аникей строгал брусья для новых станков. Иван и Семен пилили и притирали детали. Даже Потап, мой денщик, и тот был при деле — бегал с поручениями, таскал материалы, убирал стружку.
Я чувствовал себя дирижером этого небольшого слаженного оркестра. Забегал то к чертежникам, то к слесарям, то к кузнецу, проверял, подсказывал, ругался, хвалил. Голова работала на пределе, решая десятки задач одновременно — от расчета зубьев шестерни до состава пороховой смеси для запала.
И, признаться, я был на кураже. После стольких месяцев борьбы, унижений — наконец-то дело пошло! Меня признали, мне доверили, мне дали ресурсы (не без боя, да). Покровительство Царя и Брюса ощущалось как непробиваемая броня. Я чувствовал себя уверенно, почти всемогуще. Казалось, что теперь-то уж точно никто не посмеет мне помешать. Эта уверенность пьянила и придавала сил. Возможно, даже слишком много уверенности. Может, где-то я и потерял прежнюю волчью осторожность, стал меньше оглядываться по сторонам, больше доверять бумагам с печатями и обещаниям начальства.
Ведь теперь я был Петр Алексеевич Смирнов, фельдфебель, дворянин, человек на государевой службе, выполняющий личный приказ Царя. Кто ж на такого покусится?
Эх, зря я так думал…
Работа над «образцовым заводом» и станками шла своим чередом, но меня все больше захватывала другая тема — боеприпасы. Пушка — это хорошо, но чем она стреляет — не менее важно. Мои фронтовые наблюдения не давали покоя. Я снова и снова прокручивал в голове картинки боев: как наша пехота мучилась под огнем, не имея возможности ответить шведам, засевшим в укрытиях; как наши ядра бессильно плюхались в брустверы или отскакивали от корабельных бортов. Нужны были аргументы посерьезнее.