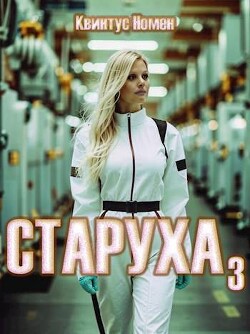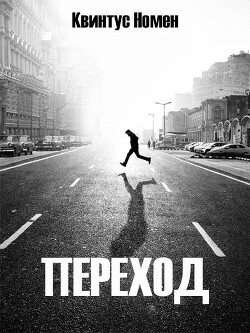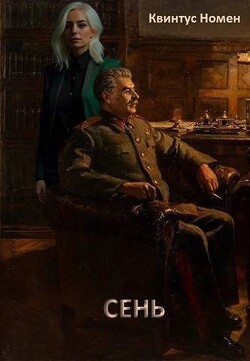Внучь олегарха (СИ) - Номен Квинтус
А сейчас Советский Союз по техническому оснащению напоминает тот же Китай, причем даже не Китай девяностых, когда у деда с ним бизнес серьезный пошел, а, скорее, Китай конца семидесятых, когда туда еще американские инвестиции не поперли мощным потоком. И разница — с моей точки зрения — была лишь в одном: тогда в Китае не было мощной научной базы, необходимой для самостоятельного развития, а в СССР эта база уже есть. Правда, «человеческий потенциал» этой базы уже прилично разбавили присосавшиеся к науке дармоеды — но как с ними бороться, я знала. То есть «в принципе знала», а у семнадцатилетней вчерашней школьницы инструмента для такой борьбы просто не было — но и его можно при должном усердии создать. Однако, чтобы его хотя бы начать создавать, нужно не только обзавестись определенными бумажками вроде диплома, но и обрести определенную репутацию. Но ведь страна — и конкретно МВТУ — уже подготовила средства для ее обретения! Это было студенческое научно-техническое общество (которое в институте организовали еще в сорок третьем году). И, хотя по неофициальному положению в это общество принимали студентов лишь с третьего курса, Аня в нем уже участвовала — правда, она до поступления в институт больше четырех лет проработала на какой-то белорусской электростанции диспетчером и считалась «человеком, знающим фактуру». Но если пролезть в это общество под ее «прикрытием»… Ведь в обществе уже было несколько второкурсников, которые в него влились по рекомендации старших товарищей…
Впрочем, на второй день обучения обо всем этом думать рано, а думать надо о том, чем себя прокормить. В принципе, с обедами проблема решалась: в студенческой столовке можно было прилично пообедать примерно за рубль-восемьдесят (то есть сытно, но «без излишеств», а при особой нужде можно было и в рубль уложиться), но столовая эта не работала по воскресеньям, а еще хотелось и позавтракать, и поужинать. По инициативе Ани мы для себя устроили своеобразный «кооператив»: скинулись, «централизованно» закупили кое-какие продукты, вечером по очереди готовили — но в результате на завтрак и ужин была у нас лишь каша, а одной кашей питаться не очень полезно для здоровья. Особенно для молодых растущих организмов — а на мясо у нас просто денег уже не оставалось. Конечно, теоретически и без мяса прожить можно, но это было довольно грустно. И я принялась придумывать, каким образом можно разнообразить наше скудное меню.
Мысль «пойти наловить рыбы в Яузе» я отвергла сразу: во-первых, в речке рыбы почти нет и нет времени ее ловить, а во-вторых, в речку столько всего сливалось, что даже случайно выжившая в ней рыба вряд ли окажется съедобной. По той же причине была отвергнута идея ловить и варить голубей: хотя в девяностые во многих небольших городах это люди практиковали, но в крупных промышленных центрах на это мало кто отваживался. Ну а кто отваживался (в основном бомжи всякие), тот долго на этом свете не задерживался: в птичках было столько разных паразитов…
Так что вариант оставался один: добыть продукт бесплатно. То есть добыть его так, чтобы не требовалось за него деньги платить — и у меня, после одного из разговоров с Аней где-то ближе к концу месяца, когда мы аккуратно подъедали наши сентябрьские запасы, появилась идея как этот трюк провернуть. И не в смысле «продукт украсть и убежать», а в свободное время на него заработать — точнее, выполнить работу, за которую нам продуктов отвалят.
И разговаривали не мы вдвоем, за столом и Женя с Валей сидели — и вот Женька пожаловалась, что в родном Волоколамске у родителей тоже с продуктами стало туго, так как родня, которая в колхозе неподалеку выращивала свиней и мясцом их подкармливала, осталась в этом году без хрюшек. То есть сами решили в этом году свиней не заводить, хотя поросенка на откорм в колхозе купить труда не составляло. И даже бесплатно их можно было взять, но с расчетом «трех поросят берешь — одного колхозу откормленного отдаешь», причем колхоз и корм на это дело давал…
— А почему они в этом году отказались? — удивилась Валя: ее-то родители как раз в деревне и жили и скотину держали. — Это же не особо и сложное дело — поросенка-то откормить, когда корм есть.
— Сложное. Поросята легко простужаются и помирают после этого, а у них дети в школу пошли, за печкой в свинарнике днем следить некому. Ну а поросятам ведь и жара тоже вредна, заранее натопить посильнее не получится.
— А почему они не поставят там, в свинарнике, какой-нибудь терморегулятор? В отопительный котел стокер поставить, который в зависимости от температуры дров подкидывает то побольше, то поменьше…
— Это ты как представляешь? — уже с серьезным таким сарказмом поинтересовалась у меня Аня. — Ты хоть живьем стокер видела? Он дрова в котел подавать не может!
— Разные дрова бывают.
— А терморегулятор какой?
— Ну, думаю, с концевым контактом на сельсине точно не подойдет: он в старт-стопном режиме работает, может случиться так, что все предыдущие дрова прогорят и новые уже в холодный котел насыпаться будут. Так что нужно именно дрова подсыпать постоянно, просто то помедленнее, то побыстрее, ведь зимой-то в любом случае нужно будет все время свинарник отапливать, просто когда посильнее, а когда послабее. Так котел будет все время гореть… хотя, думаю, и систему поджига холодного котла можно будет придумать. Электричество в деревне-то есть?
— Электричеством свинарник не протопить!
— А я и не говорю, что его на отопление тратить нужно, просто с ним можно будет сделать искровой поджиг бензиновой зажигалки для дров…
— Светик, перестань чушь нести, — с ноткой усталости в голосе сказала Аня, — ты, наверное, просто слов умных где-то наслушалась, но смысла в твоих словах — ноль!
— Сама ты ноль! — во мне снова проснулась «бизнес-леди». — Вот смотри сюда: берем, скажем, нихромовое сопротивление остеклованное, пускаем по нему ток. Ток этот при постоянном напряжении сильно зависит от температуры.
— Сильно?
— Достаточно сильно: у нихрома температурный коэффициент сопротивления, если мне память не изменяет, порядка одной тысячной на градус. А если этот ток до нужного уровня усилить… Здесь ставим компаратор, сравниваем протекающий ток с эталонным, в зависимости от разницы подаем больший или меньший ток на мотор стокера…
— А как ты будешь токи сравнивать?
— Тебе прямо сейчас схему нарисовать?
— Нет, я пока в электрических схемах… мы их еще не изучали. Но ты уверена, что это будет работать?
— Ну работает же… то есть у меня лично сомнений нет.
— Слушай, а если ты в наш кружок зайдешь, там с теми, кто уже в схемах разбирается, поговоришь…
— Мне проще схему самой собрать, чем неучам ее объяснять… хотя… Девочки, а если мы такой терморегулятор отопления сделаем, то сколько мы сможем за него в колхозе получить? Я имею в виду не денег, а непосредственно той же свининки? Как раз зимой, мы ее в сетке за окошком долго держать сможем…
— Да такая машина… ее любой колхозник себе возьмет с удовольствием! — обрадовалась Валя. — Ей же не только свинарник или курятник, но и дом отапливать можно! Хотя… а сколько он может стоить?
— А вот это не ко мне вопрос. Надо у ребят поспрашивать, у старшекурсников, кто уже какой-то разработкой машин занимался, они ведь вроде и себестоимость считать умеют?
— Свет, мы с тобой завтра после третьей пары пойдем в общество, — снова проявила инициативу Аня, причем сама ее проявила, — там, я думаю, люди, которые все это посчитать умеют, найдутся. И которые схему твою посмотрят… хотя бы проверят, что она в принципе работать сможет…
Вот так забота о вкусной и здоровой (для меня) пище позволила мне вступить в научно-техническое общество на равных со всеми другими его участниками. Не сразу, еще кто-то из преподавателей, курирующих занятия студентов, с неделю изучал схему моего «усилителя постоянного тока» (термин «операционный усилитель» внедрять было явно рановато), но когда «большие дяди» пришли к выводу, что схема вполне себе работоспособна и даже полезна (причем не только в терморегуляторе), я стала в разных студенческих разработках участвовать уже по полной программе. Ну а так как я по профилю факультета вообще никак с электричеством и электроникой не связывалась прочими участниками таких проектов, никто даже не поинтересовался, откуда я все это знаю. Мало ли чему там, на довольно закрытом факультете, студентов обучают — а с факультета в этом обществе кроме меня вообще никого не было.