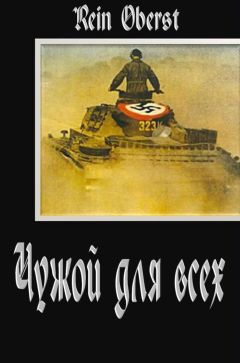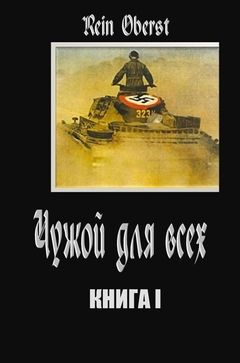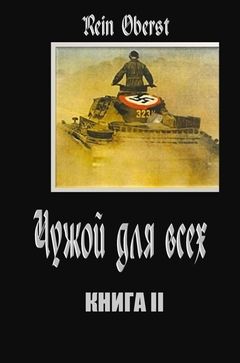Rein Oberst - Чужой для всех
— Я понимаю вас, сержант, — подбодрил его офицер. — Вы невольно защищали интересы своей сестры, своей семьи, а Родина требует в этот переломный момент войны защитить ее интересы. Говорите, я вас слушаю.
До самого Довска и до Журавич Миша рассказывал старшему лейтенанту Киселеву, офицеру отдела СМЕРШ сорок восьмой армии о трагедии связанной с началом войны для сельчан, для Веры, для его семьи. Рассказывал с жаром, с внутренними переживаниями.
Офицер с большим интересом слушал очевидца о начальном периоде войны, когда отступала Красная Армия, когда он с сестрой Верой пытался уйти к своим через Пропойск, о сотне погибших и тысяче растерянных людей и военных, метавшихся по полю, когда их бомбили немецкие бомбардировщики.
Особо заинтересовали Киселева подробности подбитого танка Т-26 и пленения советского танкиста, оставшегося в живых.
Недоверчиво отнесся он к рассказу об отношениях Веры и немецкого офицера. Но поведение Веры, ее личные признания, а также приезд старшего лейтенанта Вермахта Франца Ольбрихта в начале августа 41 года за Верой, чтобы ее увезти в Берлин и жениться на ней, драка с ним Михаила были весомыми доказательствами их порочной связи и серьезности намерений немца. Тем более Михаилу оставили жизнь. И еще один момент приблизил убежденность контрразведчика в правильности выводов майора Лобанова, куда будет прорываться «Ариец» на танках, это то, что Веру на протяжении двух лет оккупации немцы не трогали и запретили трогать полиции. Ее не увезли как других селян в Германии осенью 43 года. А после того как Миша, вспоминая, обрисовал внешний облик немецкого офицера и Киселев его сопоставил с тем, что дал в показаниях Новосельцев, он уже почти с полной гарантией мог ответить что это один и тот же человек. Разве, что у нынешнего есть лицевой шрам от правого уха. Но эту отметку войны он видимо получил в боях за эти три года.
— Вы нам очень помогли, сержант Дедушкин, — удовлетворенно отметил в разговоре офицер. — Спасибо вам. Однако почему вы держали эту информацию в тайне и не доложили нам сразу?
— Вера – моя любимая сестра и я боролся за ее моральную чистоту как мог, я об этом говорил вам, — с волнением добавил Миша. — Она – моя боль и трагедия. А кому охота рассказывать об этом. Никто не спрашивал, вот и не говорил. Вере и так достается от односельчан. Она почти не выходит из дома бабки Хадоры, чтобы не слышать в спину очередное оскорбление. А ее дочку фашистской байстрючкой называют, — Миша глубоко вздохнул. — Все это тяжело слышать и видеть.
— Хорошо. Я больше не буду теребить ваши больные душевные струны. Но это полдела. Теперь – об основном. Смотрите, уже Журавичи проезжаем.
Мишу настолько отвлек разговор офицера отдела СМЕРШ армии, что он даже не заметил, как они въехали в районный поселок. Его родной районный поселок Журавичи, где он до войны подрабатывал в ЗАГСе, где когда-то в больнице лежал его отец. Ему мимолетно вдруг вспомнилось, как он привел сюда в первый раз шестилетнюю Катюшу, и как она в слезах после смерти отца блудила по поселку, а затем самостоятельно пришла домой. Как это было давно…
Глядя, как они свернули с центральной улицы на проселочную дорогу, у него до боли защемило в сердце. Он едет домой…
— Сколько километров отсюда до вашего дома, Михаил?-
— Километров двенадцать будет, если напрямки. А по проселочной дороге все пятнадцать.
— Тогда, Николай, останови машину у тех кустиков. Разомнемся.
— Это правильно. — водитель, немного проехав вперед, сбавляя скорость, плавно нажал на тормоза у обозначенного ориентира. — Приехали, товарищи. Остановка, — и весело улыбаясь, он повернул голову назад. — Можно оправиться, товарищ старший лейтенант?
— Можно женщину, можно потаскушку, можно козу, — смеясь, проговорил офицер, а в армии «разрешите».
Засмеялся и Миша над шуткой особиста. Хотя ее слышал раньше несколько раз. От этого смеха ему стало легче. Все же тяжелый и неприятный состоялся разговор.
— Отойдемте, сержант, — офицер закончил смеяться и предложил ему выйти из машины и сам направился к небольшому пригорку с кустами орешника.
За ним последовал и Михаил.
— Теперь об основном, — повторил второй раз свою фразу старший лейтенант госбезопасности, размяв затекшие ноги. — Я видел, что вы обратили внимание на плотность охраны шоссе, выставленной от Довска в разные стороны, особенно к линии фронта.
— Да я заметил это. Только не понял, зачем столько противотанковых артиллерийских расчетов и пехоты, скрывавшейся вдоль дороги.
— Скажу вам прямо, — посерьезнел офицер. — То, что вы сейчас услышите, является секретной информацией. Она разглашению не подлежит.
Офицер достал портсигар и открыл его. Вытащил из-под резинки папиросу.
— Берите, закуривайте.
— Спасибо, товарищ старший лейтенант, но я не курю.
— Серьезно? — удивился офицер.
— Не привык еще.
— Как хотите, — контрразведчик постучал папиросой по запястью руки, выбивая из мундштука табачную пыль, и с наслаждением закурил. Затем сделал глубокую затяжку и, выпустив дым, начал говорить.
— Четыре дня назад на одном из участков фронта в зоне ответственности нашей армии врагу удалось скрытно заслать в глубокий тыл диверсионную группу в составе танкового взвода. Диверсанты наделали много шума и больших бед. Я не буду объяснять вам, что этому способствовало, каковы причины и кто виноват. Разбирательство покажет. Это вас не касается. Скажу только то, что вы должны знать. Руководителем группы, как сейчас я уверен после беседы с вами, является немецкий офицер Франц Ольбрихт. Нам удалось выяснить, что диверсанты направляются через Довск, в сторону линии фронта. Немцы, в определенное время, будут пытаться создать им коридор для прорыва. Но по дороге, как мы предполагаем, и я стал в этом уверен после беседы с вами, враг пройдет через поселки Заболотное и Поляниновичи.
— Как вы думаете, зачем? — офицер сделал новую затяжку.
Миша слушал внимательно офицера и уловил логику его мышления. Поэтому он без промедления ответил.
— Видимо, для встречи с Верой.
— Молодец, сержант. Понимаете с полуслова. Да, Франц Ольбрихт направляется к Вере.
Отсюда ваша задача. Если врагу удастся пробиться через наши заслоны, в чем я сильно сомневаюсь, и мы его не уничтожим, то он уже сегодня окажется в поселке Заболотное. Если это произойдет, вы должны нам дать знать, что враг появился у вашего дома. Не вступая в бой, не раскрывая себя, только дать знать, что это он, Франц Ольбрихт. К соседнему дому, что справа от вас, мы провели полевой телефон. Сейчас там никто не живет. Хозяйка умерла еще в 42 году, а сын служил в полиции, партизаны его казнили.
— Это хата Абрамихи, я знал их.
— Ну и прекрасно. Ничего не бойтесь. Только дайте нам знать. Мы сами попытаемся взять командира группы в живых. Это дело за нами. В Поляниновичах также устроена основательная засада. Будут работать несколько снайперов, на случай если диверсанты попытаются уйти пешим ходом. Вопросы есть?
— Как я появлюсь в поселке.
— Очень просто. Мы вас подвезем еще километров десять, а дальше доберетесь пешком. Вот, возьмите, — офицер достал из внутреннего кармана отпускной билет на трое суток. Вы – отпускник и радуйтесь отпуску. Порадуйте свою мать и сестер. Вещмешок с продуктами возьмете в машине. Вере ничего не говорите. Вы меня поняли?
— Так точно, товарищ старший лейтенант. А если он не появится в поселке?
— Появится! — резко отреагировал контрразведчик на вопрос Миши и, прищурив глаза, далеко выбросил щелчком докуренную папиросу. — Обязательно появится, если мы ему позволим. И последнее, — он сурово посмотрел в глаза Михаила. — Помните, вы выполняете очень ответственное задание. Настолько ответственное, что его провал сулит вам самые жесткие меры в отношении вас и вашей семьи, за связь с немцами в годы оккупации.
Миша вздрогнул от этих слов, напряг скулы, но промолчал…
Глава 21
Гауптман Ольбрихт и лейтенант Эберт, в сопровождении двух панцершютце, осторожно и бесшумно подкрались к краю смешанного леса. Кто-то из танкистов наступил на сухую ветку и раздался треск. Все замерли. Ольбрихт медленно повернул голову назад и в упор посмотрел на солдата. «Осторожнее, Курт» — говорили его строгие уставшие глаза. Но вокруг стояла тишина. Только слева, где должна была быть проселочная дорога, до них донеслась слабая гортанная русская речь.
— Т-с-с, — приложил он палец к губам. Затем аккуратно отодвинул ветку густого кустарника и направил свой взгляд вдаль, через мощный тридцатикратный цейсовский бинокль. С каждой секундой его лицо становилось мрачнее. Он заскрипел зубами. Грубый шрам, шедший от правого уха, натянулся как канат и готов был от напряжения лопнуть.