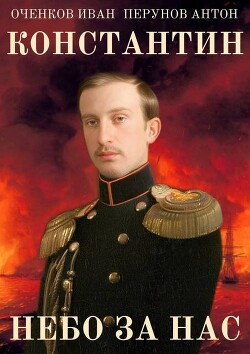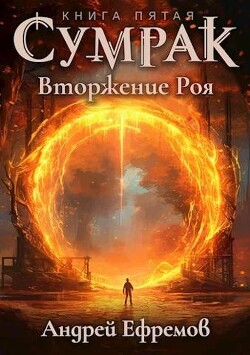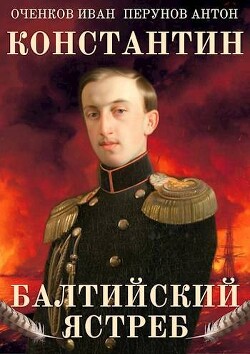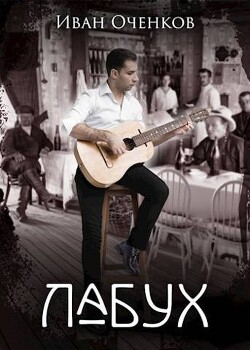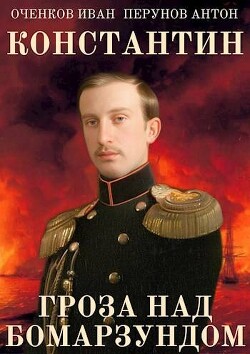Вторжение (СИ) - Оченков Иван Валерьевич
Картина выходила мрачная. Многие полки, в особенности в 16-й дивизии лишились до трети личного состава и значительной части офицеров. Несмотря на это, армия сохранила боеспособность и готова была сражаться, если бы не одно — «но». Оказалось, что мы практически исчерпали боеприпасы. Особенно критическое положение сложилось в артиллерии.
— Ваше императорское высочество, — Поднялся генерал Кишинский, — Оставшихся ядер и картечи хватит самое большее на час боя. Гранат нет вовсе.
— Патронов не хватает, — мрачно подтвердили и Гогинов с Тимофеевым.
Хрущов промолчал, его полк сражался больше в штыки, но на общем фоне это уже не имело принципиального значения.
— Лихачев, у твоей бригады как дела?
— Еще день продержимся, но не более.
— С эдакой скорострельностью? — не смог сдержать удивление помалкивавший до сих пор Горчаков.
— Мы взяли двойной запас, ваше превосходительство, — пояснил ему командир бригады.
— Это вы правильно сделали. Какие потери понесли аландцы?
— Пятьдесят два убитых, полторы сотни раненых. «Шарпсы» отыскали и собрали все до одного. Особо высокие потери в батарее Алымова.
— Доложили уже про его геройство… Сам-то хоть жив?
— Что ему сделается, — скупо усмехнулся моряк.
— Понятно, — кивнул я, после чего ненадолго погрузился в раздумья.
— Что будем делать? — первым не выдержал все еще не знавший как ему себя вести Горчаков.
— Хочешь что-то предложить?
— Никак нет, — отчаянно мотнул головой генерал. — Но готов выполнить любой приказ вашего императорского высочества!
— Тогда отступаем. Первым уходит обоз с ранеными. За ним артиллерия и пехота. Тацына на тебе прикрытие.
— Надо бы людей выделить, чтобы костры на бивуаках палить, — подсказал казак.
— Их же все равно за гребнем не видно.
— Так надо зажечь, так чтобы видели!
— Верно. Возьми батальон пластунов. Они сегодня в деле не были, так пусть послужат ночью.
Однажды я уже возвращался после тяжелого сражения. Но тогда это был триумф после победы. И хоть наши потери были немалыми мы все от адмиралов и генералов до последнего нижнего чина были триумфаторами. Теперь же, несмотря на все принесенные жертвы и неимоверные усилия, наша армия, едва выдержав натиск противника, была вынуждена отступать. Да, это не разгром, но радости на душе точно нет. Надеюсь, все было не напрасно.
Но самое неприятное, что меня встречали с помпой. Покидая Севастополь, я строго настрого запретил устраивать какие-либо празднества по поводу моего дня рождения и в тот момент мне удалось настоять на своем. Сейчас же, высокомудрое начальство пришло к выводу, что теперь можно и нужно…
И вот представьте, из-за нехватки мест в госпиталях город переполнен ранеными, многие потеряли близких, враг, можно сказать, стоит у ворот и скоро начнется осада, а во всех церквях вместо того, чтобы служить панихиды по павшим воинам провозглашают многую лету благоверному царевичу Константину. И колокола…
Так что вашему покорному слуге приходится милостиво улыбаться и принимать участие во всей этой ерунде, стараясь не сорваться и не наговорить людям грубостей. Впрочем, с одним человеком я деликатничать не стал.
Бежав с поля боя, светлейший князь Меншиков потерял последние остатки моего уважения. Более того, мне со всей ясностью стало понятно, что эта моя ошибка. Нельзя было оставлять его на своем месте. Нужно было сопротивляться, протестовать, пригрозить отставкой, арестовать его, наконец! Кстати, не плохая идея….
Наш разговор случился на другой день после возвращения. На Северную сторону к князю отправился лейтенант Стеценко в сопровождении нескольких вооруженных матросов, отчего возглавляемая им процессия больше напоминала конвой, и передал Светлейшему категорический приказ явиться пред мои светлы очи.
В другой ситуации, Александр Сергеевич, вероятно, мог бы попытаться проигнорировать это приглашение, однако печальная судьба Кирьякова намекала, что шутки кончились. В общем, мы встретились.
Некоторое время слывущий первым петербургским острословом князь молчал, явно не зная с чего начать разговор. Я же перебирал на столе бумаги, как будто что-то искал.
— Ваше императорское высочество, — решился, наконец, Меншиков. — Нам надобно объясниться…
— Кончилось время для разговоров, — сухо оборвал его я, после чего показал ему немного пожелтевший от времени лист, внизу которого каллиграфическим почерком отца было написано — «Быть по сему, Николай».
— Видишь, чей почерк?
— Государя, — судорожно сглотнул от внезапно наступившей сухости во рту Меншиков.
— Немедля скажись больным и убирайся из Крыма прочь! Куда угодно, в имение, в столицу, на воды в Баден-Баден, главное, чтобы здесь и духу твоего не было!
— В противном случае, — сообразил князь, — здесь появится рескрипт о моем аресте?
— О повешеньи!
— Что… вы не решитесь…
— Хочешь проверить?
— Но государь не простит вам подобного самоуправства!
— А вот это не твоя печаль, как я с папенькой договорюсь! Поэтому спрашиваю один раз, ты сам уедешь, или…?
— Воля ваша, — тяжело вздохнул побледневший князь. — Раз уж я всем мешаю…
— Только не строй из себя жертву. По твоей вине столько солдат потеряно, что… уйди, «светлейший», не доводи до греха!
— Как знать, что подумают в Петербурге? — неожиданно показал зубы, ставший похожим на загнанного зверя Меншиков. — Может это ваше безграмотное вмешательство едва не привело нашу армию к катастрофе?
— Которую предотвратило только твое стремительное бегство?
— Э…
— Оставь свою желчь для мемуаров, а к императору с таким лучше не суйся. Иначе первым же и пострадаешь. Впрочем, ты наши порядки не хуже иных ведаешь. Уедешь без промедления, обещаю преследовать не стану. Останешься при чине и пенсионе.
— Вы очень великодушны, — скривился князь.
— Иногда даже в ущерб делу. В твоем случае, так уж точно. Так что, мы договорились?
— Я уеду завтра…
— Сегодня!
— Как будет угодно вашему императорскому высочеству.
Глава 20
Впрочем, день рождения Кости и скоропостижный отъезд Светлейшего оказались далеко не единственными поводами для радости. Заведенный по моему настоянию телеграф время от времени приносил и приятные вести. Из Николаева сообщили, что четыре заложенные там канонерские лодки шанцевского типа уже прошли испытания и укомплектованы. На Олонецком Александровском пушечно-литейном заводе изготовили первую опытную партию нарезных орудий. Не бог весть что, на самом деле. Дульнозарядные, с чугунными стволами стянутыми стальными кольцами, но ведь сделали же!
Но самые чудные новости пришли с берегов далекого Белого моря. Непонятно как попавший в эти суровые края Шестаков сумел не просто отразить разбойное нападение на совершенно беззащитную Колу, но и ухитрился взять на абордаж новейший паровой английский шлюп. После чего он, очевидно, не желая успокаиваться на достигнутом, разгромил всю союзную эскадру… Этому сообщению, я признаться, сначала не поверил. Российское телеграфное агентство иной раз и не такое выдает. Но во время боя в плен попали несколько британских и французских офицеров, сообщившие некоторые подробности этого славного дела…
Первая неделя после битвы с английским шлюпом пролетела незаметно. Сначала, как положено, отслужили панихиду по павшим за Отечество воинам, затем по русскому обычаю хорошенько отпраздновали победу, и только после этого руки дошли до всех прочих дел.
Для начала нужно было решить, какой корабль ремонтировать в первую очередь «Гертруду» или «Миранду»?По-хорошему следовало, конечно, шлюп, но трофей сильно пострадал в ходе боя. И если повреждения палубы или такелажа еще как-то можно было исправить, то возможности для починки паровой машины в забытом богом северном городишке не имелось.
Волей-неволей пришлось сосредоточиться на паруснике, а заодно усилить, раз уж представилась такая возможность вооружение «Аляски». Четырнадцать английских 32-фунтовых пушек, шесть из которых имели поворотные станки, заняли места на палубе русского рейдера, сделав его действительно грозной боевой единицей. Прежняя же артиллерия, кроме пары легких пушек, поставленных на «Гертруду», отправилась на берег.