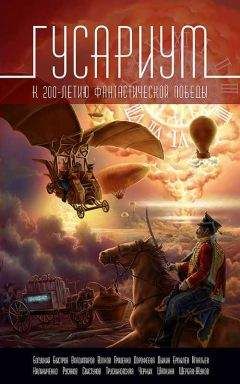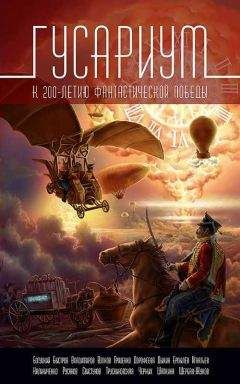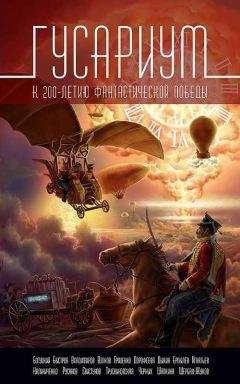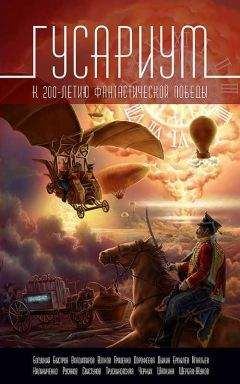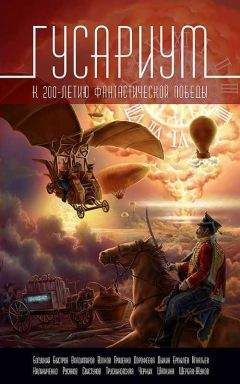Вячеслав Дыкин - Гусариум (сборник)
– Всё стало вокруг голубым и зеленым…
«И почему Танюшка считала, что я похож на актера Кадочникова? – думал он, видя в зеркальце впалую щеку, глаз и мочку уха. – Ничего общего…»
Накатила тоска по оставленной девушке. Ведь хотели же расписаться еще в мае, так нет же: мол, в мае жениться – всю жизнь маяться. Из-за этого и рассорились. Тогда казалось – навсегда. Но она будто почувствовала – прибежала, когда бывшие студенты, только что призванные, толпились на Курском вокзале, ожидая поезда. Плакала, просила простить, обещала дождаться… Последнее письмо от нее он получил еще в Подольске, перед самой отправкой, а с нового места так и не успел написать.
«Наверное, будет думать, что меня убили или что пропал без вести… Надо будет, чуть только что-нибудь выяснится, тут же черкнуть ей хоть пару строк. Лишь бы не по ту сторону фронта оказаться…»
Мысли Колошина прервал старшина, бдительный, как ему и полагалось по должности.
– Савосин бежит, – доложил он, вглядываясь из-под ладони: солнце сильно склонилось к западу и било прямо в глаза. – Ишь, как чешет… Надо бы оборону занять на всякий случай, а, товарищ лейтенант? И где это Конакбаева носит… Грибник хренов… Прошу прощения, товарищ лейтенант.
Савосин действительно летел, как на крыльях, несся, поднимая босыми пятками шлейф пыли, как будто за ним черти гнались. Выбившаяся из-за опояски нательная рубаха полоскалась на ветру знаменем, но он не обращал на это внимания, прижимая к груди какой-то сверток.
– Никак спер что-то в деревне, – удовлетворенно заметил старшина. – Ну, я ему ухи-то надеру! Сказано же было – по-тихому и без мародерства. Как думаете, товарищ лейтенант, разжился он харчишками?
– Увидим, – напряженно ответил Сергей, чувствуя, однако, как против воли во рту скопилась слюна.
Извечную солдатскую мудрость: «Приключений на нашу задницу будет еще много, а вот удастся ли еще поесть – кто знает» он усвоил еще на срочной. И готов был простить незадачливого «разведчика», если тому действительно удалось раздобыть съестное. А то ведь скоро придется зерно из колосков вытрясать – благо под боком целое поле.
– Савоська бежит, – заметил неслышно подошедший откуда-то сзади Конакбаев, и командир с раскаяньем вспомнил, что не озаботился охраной «лагеря» – так ведь подкрадутся и перережут всех. – Может, хлеба достал? И сала…
– Ты ж мусульманин, Конакбаев, – обернулся к нему Нечипорук. – Вам же нельзя. Аллах запрещает.
– Мало-мало можно, – расплылся в улыбке казах. – А я грибов набрал. Пожарим…
– Погодите с грибами, – оборвал гастрономический разговор лейтенант: уж больно не нравилось ему, как спешил Савосин.
На всякий случай он, как и старшина, достал оружие и взвел курок.
Боец с разгону проскочил мимо и закрутил головой, выискивая знакомую поляну.
– Тут мы, – вполголоса окликнул его лейтенант, и Савосин обрадованно порскнул на голос.
– Там… – задыхаясь, проговорил он, рухнув на подсохшую уже траву. – Там…
– Отдышись! Что там? Немцы…
– Там… – Дыхание в цыплячьей грудке парня всё никак не восстанавливалось. – Там…
Он протянул свой сверток командиру.
Съестного в свертке не оказалось. Развернув комок плотной ткани чуть-чуть потоньше шинельного сукна, лейтенант долго не мог понять, что это такое: темно-синяя узкая куртка, расшитая золотистыми шнурами на груди, с желтыми обшлагами и таким же высоким стоячим воротником.
– Это что за хреновину ты притащил? – изумился Нечипорук, щупая рукав куртки.
– На веревке сушилась… – выдавил «разведчик». – Я и сдернул… А то бы вы не поверили…
– Чему не поверили? Ты толком говори: немцы в деревне есть?
– Нет там никаких немцев! – взорвался Савосин. – И наших нет! И вообще это не деревня! В смысле, не жилая. Там палатки стоят, а между ними – все в таких вот одежках… – Он ткнул пальцем в куртку, при виде которой в мозгу Сергея всплыло полузабытое слово «ментик». – Ну, похожих… И шапки такие на головах высокие. Как поповский клобук, но с козырьком, кокардой и с пером. Высоченным.
Боец показал рукой на добрых полметра выше стриженой макушки.
– Кивера, что ли? – прищурился Нечипорук. – Ты, Савосин, никак перегрелся! Таких мундиров уже сто лет нету. Ты толком говори.
– Ей-богу, не вру! – в запальчивости перекрестился боец. – У многих сабли на боку, винтовки в пирамиды составлены длиннющие… А одежки все цветные – в глазах рябит…
– Может, кино снимают? – вставил Конакбаев, забыв про пилотку, полную отборных подберезовиков, которую держал в руках. – Я один раз, до войны еще, в Алма-Аты был – видел, как кино снимают…
– Может, и правда кино? – переглянулись старшие.
– Не знаю я ничего! – У Савосина от обиды, что ему не верят, как сопливому пацану, на глаза навернулись слезы. – Я как этот цирк увидел – сразу назад побёг. Хотите – сами сходите и посмотрите! Я туда больше не пойду! Там один на лошади был в папахе вот такой! Я мимо проходил, так он на меня цыкнул и плеткой по спине перетянул – гляньте!
Боец повернулся спиной и высоко вздернул подол рубахи: наискось через всю спину краснел вздувшийся рубец.
– Беги, говорит, отсюда, малец. Нельзя, мол, в лагере ошиваться посторонним. Знаете, как больно? Эх, жаль, мне наган не дали! Я б ему!..
– Я б тебе еще добавил, – заверил его Нечипорук. – Да не по спине, а по заднице. Сказано же было: потихоньку. А ты в открытую, да еще с краденым имуществом.
– Права такого не имеете, товарищ старшина! – запальчиво ответил боец. – Под трибунал можете, а по заднице – незаконно! Это вам не старый режим.
– Прекратить перепалку, – сказал лейтенант. – Не похоже это что-то на киносъемку. Да и какая здесь киносъемка в военное время? Чуть стемнеет, я сам схожу, посмотрю что к чему.
– Может быть, я? – осторожно заметил старшина. – Вы командир…
– А эта штука на тебя налезет? – протянул ему куртку лейтенант, забывшись и перейдя на «ты». – На, примерь!
– Пожалуй, что не сойдется, – с сомнением отодвинулся Нечипорук: в плечах он был гораздо шире командира, да и вообще массивнее. – И всё равно…
– Надо окончательно выяснить, где мы и вообще, что происходит, – говоря это, лейтенант вывернул куртку наизнанку и тщательно осмотрел швы: не хватало еще вшей нахвататься с чужой одежки, а твари эти были ему хорошо знакомы по беспризорным годам. – Э, да тут карман!
В кармане, грубо нашитом на подкладку, обнаружился хитро сложенный листок покоробившейся плотной бумаги: похоже, что владелец позабыл о нем и выстирал одежду вместе с ним.
– Похоже, письмо, – ткнул старшина ногтем в остатки красного воска, когда-то скреплявшего листок. – Вон, печать сломанная. Никак приказ какой?
Письмо оказалось отнюдь не приказом…
«Mon cher ami, Nicolas…»
– Тут по-французски, – поднял глаза от письма Сергей. – Девушка пишет возлюбленному, уезжающему на войну. Клянется в любви, обещает ждать, молит беречь себя, сообщает о новостях и общих знакомых… Словом, обычное письмо. Но…
– А вы и по-французски понимаете? – завистливо спросил старшина. – Здорово… А я вот к языкам неспособный. Только «хенде хох» да «Гитлер капут» и знаю.
– С пятого на десятое, – отмахнулся лейтенант. – В объеме школьной программы. Не в этом дело.
– А в чем?
– Вы на дату взгляните!
Внизу листка, покрытого строчками летящих букв со старомодными изящными росчерками, значилось черным по белому:
«1812 года июля 17-го дня»…
* * *Смеркалось. Далекий орудийный гул, который теперь казалось немыслимым принять за мирный гром, давно прекратился. Сергей, переодетый гусаром – никак не оставляло ощущение маскарада, – шагал по пыльной дороге к лагерю. Посоветовавшись, сообща решили, что играть в Кожаного Чулка[2] не стоит – мало ли как отнесутся в лагере к крадущемуся в полутьме лазутчику. Могут и не только плеткой полоснуть…
Да и вряд ли это был лагерь. Скорее ЛАГЕРЬ: кругом, насколько хватало глаз, в сумерках раскинулось море огней. Такого Колошин в своей жизни еще не видел никогда – тысячи костров уходили вдаль на километры. Надежда на киносъемочную группу, еще державшаяся где-то в уголке сознания, стремительно таяла. Это были не декорации. Перед Сергеем, в подступающей темноте расстилалась панорама огромной армии, готовящейся к битве. И уже было понятно, что это за битва… Мозг отказывался верить, но, судя по всему, случилось невозможное – четверо солдат Отечественной войны остались там же, на Бородинском поле, но неведомым образом перенеслись во время той, первой, Отечественной.
В памяти всплыли бессмертные строки:
…И вот на поле грозной сечи
Ночная пала тень.
Прилёг вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус[3].
Ликования французов отсюда, правда, слышно не было, но звуки устраивающейся на ночевку армии доносились отчетливо: разноголосый говор, сливающийся в монотонный шум, ржание лошадей, лязг и скрежет металла – вероятно, точили те самые штыки и сабли перед боем. Да и запахи соответствовали: сытный аромат готовящейся пищи смешивался с запахом дыма от костров и «благоуханием» лошадиного навоза. Да и не только лошадиного: сотни тысяч людей, скученные в одном месте, не могли не отправлять свои естественные надобности…