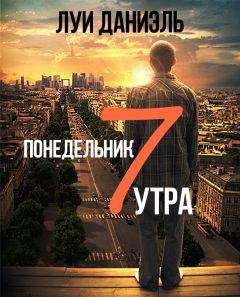Андрей Валентинов - Флегетон
Барон, естественно, решил этого не ждать и воспользоваться успехами поляков и Петлюры. Отсюда – наше летнее наступление. В нашем активе была земельная реформа, соглашение с Пилсудским, Петлюрой и, по слухам, даже с Упырем, отдохнувшая восьмидесятитысячная армия и постоянная помощь Франции.
Это мы понимали еще тогла, но загадкой оставалось другое – чисто военные цели Барона. Логичнее всего было ожидать удара за Днепр, навстречу полякам. В крайнем случае, мы могли попробовать прошлогодний вариант и прорываться через Донбасс и Харьков.
Мы не сделаои ни того, ни другого. Наши удары веером разошлись по всей Северной Таврии, и покуда мы брали Мелитополь, «дрозды» шли к Днепру. Мы били не кулаком, а растопыренными пальцами, и эффект такого удара не мог быть сокрушительным для господ большевиков.
Многие оправдывают Барона. Поговаривают, что за Днепр его в первые недели не пускали англичане, чтобы не мешать полякам. А удар по Донбассу был нужен, чтобы прорваться к Дону, где нас всегда ждали.
Может, Барон на это и рассчитывал. Но Дон к этому времени был уже прочно оккупирован и полностью разоружен, а наш десант на Кубань показал, что казаки предпочитают мириться с комиссарами. Вдобавок, предполагаемые союзники ничего для нас не сделали. Не лучше вышло и с земельной реформой. Юристы вновь запели давнюю песнь о выкупе, а крестьяне платить не собирались. В общем, политически мы провалились почти сразу.
К тому же, в самом начале нашего наступления красные переломили ход битвы под Киевом и погнали поляков назад. Так что, мы здорово опоздали.
Впрочем, есть циники, утверждающие, что наступление было необходимо Барону для международного признания. И заодно для того, чтобы запастись провиантом в богатейших губерниях России. Особенно был нужен хлеб, который мы продолжали продавать на Запад почти до самой эвакуации. В таком случае, Бог ему судья, нашему Барону.
Конечно, в те первые дни мелитопольского десанта ни о чем подобном и не думалось. Мы снова наступали, наступали по той самой таврической земле, по которой за полгода до этого уходили, отбиваясь от банд Упыря и господ красночухонцев. Теперь бежали они, а не мы, и это приносило невольно чувство удовлетворения. Когда наступаешь, быстро появляется то, что Клаузевиц называет привычкой к победе. А такая привычка – страшная вещь, даже если воюешь один против трех, как это было в те дни.
Правда, Рачье-Собачья умнела на глазах. И вскоре мы получили возможность почувствовать это, так сказать, на собственной шкуре.
Бронепоезда стояли почти без прикрытия. Наш десант глубоко вспорол красный тыл, и их фронтовые части были еще только на подступах к нам. Но камандование господ краснопузых, выиграв несколько часов, разместило у Акимовки бронепоезда, которые тут же открыли бешенный огонь, уложив наши цепи носом в траву.
Прапорщик Мишрис, любопытство которого не исчезало даже под обстрелом, поспешил поинтересоваться у меня назначением аэростата. В первую минуту я и сам задумался, а потом сообразил, вспомнив Германскую. Аэростат служил наблюдательным пунктом, откуда корректировался огонь с бронепоездов. Да, это уже вам не штыковая под музыку. Это уже война по всем правилам, так сказать, по науке.
Мы вновь лежали в густой траве, а бронепоезда, остановив нас несколькими сильными залпами, лениво постреливали, экономя снаряды. Оставалось ждать подхода нашей артиллерии.
Насколько я помню, с артиллерией нам всегда отчего-то не везло. И на этот раз после часового ожидания выяснилось, что подвезли всего четыре орудия. Наша батарея бодро открыла огонь, мы встали в полный рост, готовясь идти в штыковую, но не прошли и ста метров, как вновь ударили пушки с бронепоездов. Нас не задело, и мы продолжали движение вперед, но огонь наших пушек становился все реже и реже, пока, наконец, не смолк. Очевидно, батарея красных, пользуясь аэростатом, засекла нашу батарею и подавила ее. Тут краснопузые вновь ударили, на этот раз шрапнелью, и пришлось снова залечь в траву.
Аэростат висел прямо над нами, вызывая невольные размышления по поводу намалеванного на нем лозунга. Я бы еще понял, ежели было бы обещано убить барона, но это их «даешь» приводило в недоумение. Неужели им так хотелось взять Петра Николаевича в плен? Вероятно, русский язык за годы Смуты сделал такие успехи, что моего образования уже не хватало.
Время от времени мы открывали по «колбасе», как было принято именовать аэростаты еще в Германскую, прицельный огонь, но проклятый выродок из семейства монгольфьеровых висел довольно высоко. Приближался вечер, и оставалось надеяться только на ночную атаку. Впрочем, к господам краснопузым вот-вот могли подойти резервы.
Тут к нашим позициям на полусогнутых подбежал какой-то офицер и начал хриплым голосом вызывать артиллеристов. Оказалось, что одно орудие уцелело, но прислуга была перебита, и Яков Александрович приказал собрать всех, кто умеет отличить панораму от затвора. Вызвался поручик Успенский – на Германской он полгода прослужил во взводе артиллерийской разведки.
Вскоре пушка действительно заговорила. После первого же снаряда бронепоезда дали залп, нас засыпало землей, над батареей взлетели черные столбы, но тут пушка рявкнула вторично, затем еще раз – и тут аэростат исчез. Третий снаряд разнес его буквально в клочья, и мы лишь успели заметить два белых купола – это красные наблюдатели спускались на парашютах.
За парашютистами мы наблюдали уже не лежа, а с ходу. Без всякой команды мы вскочили и, нарушая все правила, побежали прямо к железной дороге. Надо было не дать большевикам времени понять, где мы и что делаем, покуда они ослепли. Давно я так не бегал, как тем далеким вечером под Акимовкой. Но расчет оправдался – через десять минут мы уже колотили штыками немногочисленное прикрытие, а затем занялись бронепоездами. Теперь мы находились в мертвой зоне, и пушки были бесполезны. Зато заговорили пулеметы. На новичков, знаю по себе, бронепоезд, особенно вблизи, производит сильное впечатление. Этакое первобытное чудище, клепанный монстр с хоботами трехдюймовок. Но мы навидались всякого и прекрасно знали ахоллесову пяту этого бронированного дракона – его лапы, то есть, попросту говоря , колеса.
Мы залегли метрах в пятидесяти от ближайшего бронепоезда, на котором было написано белой краской «Товарищ Троцкий», и начали лупить, не жалея патронов, по смотровым щелям и бойницам. Это только со стороны кажется, что экиапж железного монстра надежно защищен. Бойницы прекрасно поражаются прицельным огнем, и противник «слепнет». Покуда мы от души тратили патроны, прапорщик Немно с двумя юнкерами, прихватив с собой сумку с ручными бомбыми, стал обходить бронепоезд слева. Надо было выиграть несколько минут, но чудище, словно что-то почуяв, пустило дым и начало подергиваться, собираясь уходить.
Упускать такого красавца было жаль, и я крикнул пелеметчику, чтоб он бил по паровозу. Паровоз был защищен надежно, но грохот пуль по броне поневоле должен был заставить господ красных машинистов переждать минуту-другую. А этого должно хватить.
Поезд все дергался и пускал дым, пули лупили по броне, и тут слева грохнул взрыв, затем еще один. Кажется, дело было сделано. Бронепоезд резко дал задний ход, но сразу же остановился – прапорщик Немно поразил дракона в его лапы, взорвав железнодорожное полотно. Большевики оказались в ловушке.
Минут двадцать они еще отстреливались, но с каждой минутой все более неуверенно. К нам подбежал штабс-капитан Дьяков с сообщением, что один из бронепоездов все-таки ушел, один захватили с ходу, а один, как и наш «Товарищ Троцкий», оказался в ловушке. Тем временем красные, сообразив, что зря расходуют патроны, замолчали. Пора было действовать.
Я вытащил белый платок, намотал его на штык и помахал в воздухе. Этот интернациональный жест подействовал сразу же, и когда я вышел вперед, дверь одного из вагонов со скрежетом растворилась.
Мне много раз приходилось вести подобные переговоры. Поэтому, даже не глядя на склонившегося ко мне толстяка в кожанке, я потребовал немедленной сдачи, обещая в случае отказа разнести паровоз из тяжелых гаубиц. Чтоб не было особых сомнений, я напомнил судьбу аэростата и пообещал начать именно с этого вагона. Взамен на сдачу я обещал всем, находившимся в поезде, взять их в плен живыми и здоровыми. Впрочем, через пять минут гарантии заканчивались.
Толстяк в кожанке поинтересовался судьбой членов большевистской партии и бывших офицеров. Я велел ему не торговаться и вылезать наружу.
Тут где-то рядом грохнул разрыв трехдюймовки. Очевидно, это били с одного из бронепоездов, но у страха глаза велики, и экипаж «Товарища Троцкого» принял это за начало обстрела. Через минуту толстяк стоял рядом со мной на насыпи, от волнения даже забыв отстегнуть кобуру маузера. Вслед за ним из вагонов начали вылезать остальные.