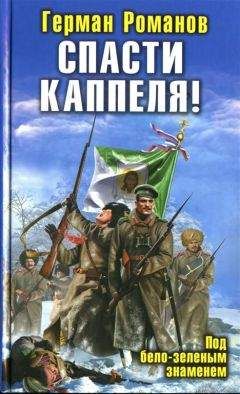Герман Романов - Спасти Императора! «Попаданцы» против ЧК
Он рассчитывал выставиться к гостинице пораньше, отведя достаточное время для разговора с отцом. В принципе, из графика они пока не выбивались: командирские натикали аккурат девять вечера. Пока все шло по плану. Одна только мысль тревожными молоточками звенела в мозгу: покойный Мойзес (как великолепно звучит это слово применительно к чекисту) мог обговорить точные сроки своего возвращения. Потому внешняя молчаливость их машин была обманчива — в любую секунду тишина могла взорваться смертоносным грохотом трех пулеметов, не считая автоматов и пистолетов. Да и Путт был из тех офицеров, что примут все меры, какие будут считать нужными. Тут можно доверять полностью его боевому опыту, особенно столь специфическому.
Вроде клялся Мойзес усердно, как пионеры у Вечного огня, и Фомин стращал его мыслимыми и немыслимыми карами, но оставалось гадостливое ощущение того, что что-то он упустил, как в глупой загадке про А и Б.
«А упало, Б пропало… — Фомин как можно незаметнее поправил ремень ППС. — В чем же он меня кинул, гад? Не может все так гладко идти!»
Автомат со сложенным прикладом и отстегнутым магазином привычно устроился на боку и давил на плечо чувствительной тяжестью, но зато был надежно прикрыт от чужих глаз длинной полой куртки. Фомин вздохнул и решительно пошел к входной двери памятного по той жизни дома.
Теперь нужно было делать морду тяпкой и живо проследовать на второй этаж. Препятствий Фомин не видел — дурака нет, чтоб чекиста останавливать. Впереди его ждала встреча, та, которой просто не могло быть и отстрочить которую было невозможно.
Язычок замка не устоял под нежным прикосновением стального лезвия. Раздался щелчок, дверь приоткрылась. Он ухмыльнулся — в таких снимаемых квартирах следует опасаться не воров, а прислуги, которая может обчистить постояльцев почище любых урок.
Однако, как он знал по прошлому опыту, эта комната была для всех табу, прислуга стерегла ее, подобно недремлющим церберам. Ими был усвоен наглядный урок — троих любопытствующих чекисты загребли, и бедолаги с концами канули в подвалах семинарии. Остальных строго предупредили, что в случае чего разбираться не станут, а расстреляют всех чохом.
А потому Фомин не спеша поднялся на второй этаж при полной пустоте — при виде угрюмого чекиста боязливая прислуга попряталась, только зыркая ему взглядами в спину.
Случайно вышедший из номера постоялец, с ходу уткнувшись животом в холодное железо оружия, появившееся из-под полы куртки, испарился быстрее кусочка льда, брошенного на раскаленную плиту. Стоило постоять в коридоре пару минут, как вокруг наступила мертвящая тишина.
Разбухшую дверь он открыл привычным способом: чуть поддел вверх и толкнул — руки сами вспомнили опыт четвертьвековой давности.
В ноздри сразу ударил непередаваемый запах отхожего места, насмерть прокуренного заведения и помойных нечистот. Темная прихожая, площадью едва в четыре аршина. Справа настежь открытая дверь ватерклозета, именно оттуда шел аромат амбре и журчание воды из прохудившейся медной трубы.
Однако это был самый лучший двухкомнатный номер во всем заведении, оборудованный собственным туалетом и не приносящий хозяину никакой прибыли, а сплошные убытки. Хотя это не совсем так, вернее, совсем не так. ЧК великодушно оставило ему жизнь и право вести коммерцию остальными номерами, а это перевешивало любые траты. И чекисты не были внакладе — напротив временного пристанища последнего императора они разместили в комфортных условиях товарища Ольрихт, комиссара особого отдела ВРК, прибывшего из Москвы.
Но хоть высокая должность была связана с именем мужского рода, комиссаром была женщина — лишенная не только намека на женскую красоту, но и на женские морально-нравственные принципы, с вечно зажатой во рту папиросой, алкогольным запашком и черными кариозными зубами. К этой прыщавой дылде с сальными волосенками и грязными обкусанными ногтями они с отцом и были приставлены в качестве адъютантов и телохранителей.
Понятие «телохранитель» слишком фривольно понималось бабой в кожанке. Единственный вывод, который она сделала, лицезрев обоих Фоминых, заключался в том, что они прилагались не только к ее высокой должности, но и к ненасытному телу. Эту уродину они с отцом ежедневно «окучивали», работая «стахановским», как позже было принято говорить, темпом. Жутко противно, стыдно до сей поры, до ломоты зубов, но зато Фомины получили возможность постоянно наблюдать за «Королевскими номерами», следить за Михаилом Александровичем.
Именно сегодня вечером они «тогда» и прошляпили императора. За полчаса до приезда чекистов комиссар утащила их на пристань, где грузились на пароходы латышские стрелки, матросы и красногвардейцы. Эти отряды направлялись под Уфу, где красные войска с трудом отбивали атаки отрядов белогвардейцев и чехов. Она захотела посмотреть, видите ли, а они не могли отказаться. Зато теперь у них есть еще один шанс успеть спасти, есть…
Он тихо подошел ко второй двери, что напротив входа. И бесшумно открыл ее, зная секрет — чуть надавить тонкую филенку вниз. Комната была небольшой, почти без мебели. Шкафчик, продавленный диванчик и креслице. Центральное место занимал кухонный стол с разложенным, немыслимым не только в эти да и в более поздние времена, пиршеством.
Вся столешница была заставлена без остатка консервными банками, целыми и вскрытыми, стаканами, множеством тарелок с различной снедью, надкусанными кусками хрустящего, с подгоревшей корочкой, хлеба. Бутылки стояли в изрядном количестве, с яркими этикетками — вино и французский коньяк, а не какой-нибудь мутный самогон.
Комиссар жаловала только благородные алкогольные напитки, которые употребляла в немыслимых и для нормального мужика количествах, при этом оставаясь практически трезвой, как малосольный огурчик. К тому же закуска была соответствующей по качеству и количеству.
Эта пуританствующая особа с моральным обликом портовой девки имела всего две слабости — первая располагалась на столе, а вторая происходила в соседней комнате, откуда доносилась недвусмысленная возня, слышимая даже через плотно закрытую дубовую дверь. Скрип и стоны продолжались еще с минуту, и после особенно отчаянного женского крика установилась полная тишина. Потом раздался голос, но не размягченный любовными играми, а строгий донельзя, с командирской интонацией:
— Товарищ Федот, идите и подкрепитесь, через четверть часа мы будем собираться. Нам надо ехать на пристань, посмотреть отправку латышей и моряков. Автомобиль прибудет за нами через тридцать минут. А вы, товарищ Семен, ваша очередь! Будем применять на практике методы французских товарищей! Вы Коминтерн разве не уважаете?
— Зачем, товарищ Ольрихт?! — изумленный юношеский голос заставил его сердце быстро забиться в груди.
Это был он сам, только молодой. И Фомин тяжело вздохнул — это был его мир, а не другая реальность, о которой ему когда-то толковал полупьяный философ в прокуренной комнате.
— Разве так можно? Это противоестественно! — недоуменный юношеский голос заставил вздрогнуть.
— В революции все естественно, товарищ Семен! Ложитесь на спину немедленно! — После этих слов он мучительно покраснел.
Помимо воли Фомин вспомнил, что она с ним тогда сделала, вернее, еще только сделает. Подарит ему блаженство со жгучим стыдом и лютой ненавистью, что будет терзать всю дальнейшую жизнь.
Послышались шаги, и он вжался в стену рядом со шкафом, прикрываясь им. Дверь заскрипела и отворилась, в комнату вошел почти голый мужик, из одежды на котором были потрепанные, многократно стиранные подштанники. Но вот заметный шрам на спине был знаком с детства — отец истово перекрестился и негромко сказал:
— Господи, Отец Небесный! Прости мне это прелюбодейство, отвратное для души и тела.
И тут Фомин шагнул из-за шкафа, правой рукой прижал отца к себе, левой зажал рот и негромко сказал на ухо:
— Тихо, Федоня, не пужайся. Свой я, братка твой старший. Живой я, не пужайся. Да тихо ты!
Даже напрягшиеся мышцы не удержали стремительно рванувшегося к окну отца. Слава Богу, хоть не заорал, сдержал крик. Отец развернулся и, судя по переливающимся под кожей мышцам, был готов к любой неприятности.
Прошла пара секунд, и отец смертельно побледнел. Потом стал яростно налагать на себя крестное знамение, выпучив глаза.
— Господи, помилуй мя грешного! — чуть слышно взвыл отец. — Сгинь, сгинь, морок братки моего усопшего!
— Да не сгорел я, брат! — Фомин размашисто перекрестился, расстегнул ворот, достал крестик и поцеловал его. Затем тихо сказал:
— Живой я, только не мог дать о себе весточку все эти долгие годы! На то заклятье было положено!
Все еще бледный, отец сделал несколько шагов и приблизился к нему. Постоял рядом, цепко осмотрел с головы до ног, только после минутного замешательства решился и медленно коснулся ладонью щеки.