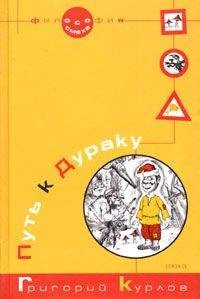Кристоф Оно-ди-Био - Бездна
Я взглянул на Анри: мне безумно хотелось размозжить башку его гостю, но только с одобрения хозяина. И он снова вмешался:
– Может, пора остановиться, друзья?
– Нет, почему же?! – возразил полемист; он уже впал в настоящий транс от избытка эндорфинов, которые питали его мозг, запрограммированный на конфликты.
Я ответил:
– Да, пора остановиться.
Мне безумно хотелось, чтобы эта трапеза кончилась, я мечтал распрощаться с гостями и обнять Пас в нашей уютной спаленке с деревянными панелями. В сравнении с этим удовольствием, с ощущением полноты жизни, которую оно мне давало, наш словесный турнир – хотя он и не заслуживал такого названия – с типом, чья болтовня меня не интересовала, а внешность просто отталкивала, ровно ничего не стоил. В конце концов, что такое современная жизнь? Фальшивые войны или подлинная любовь. Выбрать было совсем нетрудно.
Но полемист упрямо продолжал:
– Необходимо очистить природу. И не надо говорить мне об экосистеме: если акулы исчезнут, в океане останется больше места для других морских хищников, вот и все.
– Но главный хищник по отношению к акулам – сам человек, – осмелился возразить центрист. – На них охотятся ради их плавников, ведь так?
– Ну и что?! Неужели из-за десяти китайцев, которые съедят три плавника, думая, что этим они излечатся от импотенции, мы позовем на помощь Брижит Бардо? Нет, пора очистить природу! – убежденно повторил он.
Мое терпение лопнуло. Такие типы, как он, – не просто напыщенные дураки, они опасны. И я взорвался. Сказав ему с тихой яростью:
– Как у тебя все просто: нужно устроить чистку всему на свете – акулам, бубо, людям 68 года, нынешней молодежи. Может, и цыганам тоже? И мусульманам? Ты не находишь, что их развелось слишком много?
Анри буквально окаменел. Над столом повисла мертвая тишина. Я знал, что зашел чересчур далеко, но уже не мог остановиться. Я повернулся к Пас. Она мне улыбалась. Смотрела на меня ласковым взглядом, взглядом лани. И этого мне было достаточно. А они все пусть идут к чертовой матери.
Полемист позеленел. Он с трудом пролепетал, пытаясь поймать взгляд нашего хозяина:
– Почему ты молчишь, Анри?
Нет, так легко он у меня не отделается. И я продолжил. Давно пора стать панком и растоптать этого типа, чтоб замолчал навсегда.
– Что с тобой, Жан-Пьер? Захотелось к мамочке под юбку? Знаешь, мне тебя даже жаль. Да-да, когда я вижу и слышу, как ты изрекаешь свои идиотские мнения утром, днем и вечером, по всем каналам, и раздуваешься, как лягушка, от собственных слов, от собственных жалких провокаций, я тебя жалею – ты, наверное, очень несчастен. А вот когда я смотрю на акулу, на это свободное, красивое, гибкое создание, мне приятно думать, что она только действует, а не болтает всякую чушь. Акула не рассуждает в отличие от тебя. Не полемизирует. Ей хочется нырнуть в глубину – она ныряет. Хочется сожрать серфера – она его сжирает. Рецепторы акулы настолько чувствительны, что она способна засечь одну-единственную каплю крови в четырех миллионах литров воды, тогда как ты бесконечно пережевываешь одни и те же аргументы. Посмотри на себя – ты самодоволен, груб, всех ненавидишь. Она красива, а ты – урод.
Полемист пытался поймать взгляд нашего хозяина. Но тот молча смотрел на меня глазами побитой собаки.
– Раз так, я здесь больше ни минуты не останусь! – объявил полемист.
– И слава богу, наконец-то мы отдохнем, – ответил я.
Анри наконец вышел из столбняка:
– Сезар, я тебя прошу…
– Не беспокойся, Анри, мы не станем тебе докучать и тоже уедем. Если уж наказывать – так нас обоих.
– Господи, до чего же вы глупы! – в отчаянии вскричал он, прекрасно понимая, что теперь уже будет трудновато сменить тему.
В комнате я устало бухнулся на кровать. Голова гудела от выпитого вина и схватки. Пас подошла сзади и положила мне руки на плечи, напряженные, как корабельные снасти в разгар шторма.
– Ты меня поразил, – сказала она.
– Если надо разругаться с друзьями, чтобы тебя поразить, значит, ты слишком уж высоко подняла планку…
Она нагнулась и поцеловала меня в шею. Я почувствовал спиной ее упругий живот. Ее волосы шелковыми ручейками стекли мне на грудь.
– А я вот удивляюсь, как это ты смолчала.
– Да я чуть не взорвалась. Но все же предпочла воздержаться.
– Почему?
Я почувствовал, как она пожала плечами.
Это было бы замечательно
Очередь к такси в аэропорту Шарль де Голль. Слава богу, не бесконечная. Пас выглядит озабоченной. Я спрашиваю, в чем дело, но она говорит, что все в порядке. В другое время я бы отстал от нее, ибо знаю: она все равно не ответит. Но она беременна, через восемь недель ей рожать, а нам предстоит полет. Поэтому я переспрашиваю:
– Ты уверена?
– Да, да!
Приезжаем домой. Я плачу таксисту и заношу в дом багаж, пропустив Пас вперед. Она отпирает дверь и сразу направляется в туалет. Наверное, живот слишком сильно давит на мочевой пузырь.
Оставив вещи в спальне, я иду в детскую – проверить, как там дела. Нужно постараться не волновать ее. Похвалить за последние изменения: ведь до отъезда в Барселону она потратила несколько дней на обустройство детской. Я знаю, как это важно для нее.
«Шоколадная» кроватка – знаменитая шоколадная кроватка – покрыта темно-голубой перинкой. На комоде стоит «волшебный фонарь» – лампа с внутренним пропеллером, который вращается под влиянием тепла, отбрасывая на стены рисунки абажура. Это очень красиво. И успокаивающе. Она выбрала модель с рыбками, которые плавают между кораллами.
Я иду в спальню и ложусь на кровать. Рядом со мной вдруг начинает вибрировать ее смартфон. Я беру его, смотрю на экран. И сразу вижу имя отправителя. Текст состоит всего из нескольких слов, но написан заглавными буквами: «ЭТО БЫЛО БЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО».
Я выхожу из спальни и стучу в дверь ванной.
– Я в ванне! Входи!
Отодвинув скользящую створку, я вижу Пас, такую смуглую среди пышной белой пены, в которой мирным вулканом возвышается ее живот; это зрелище едва не заставляет меня отказаться от задуманного.
– Кто это – Марен?
Мой вопрос нисколько ее не смущает.
– Да так, один тип, сотрудник Хаммершлага, – отвечает она безмятежно.
– Хаммер… кого?
– Хаммершлага, профессора из Майами. Который занимается моей опекой… над Нуром…
– Ах, над Нуром…
Кивнув, я задвигаю створку и ухожу. Занавес опущен. Это уж слишком.
* * *Продолжение тебе известно. Я привез тебя из клиники в белом конвертике. Вместе с твоей матерью, измученной кесаревым сечением. В доме я, по обычаю древних римлян, взял тебя на руки, милый мой малыш, и поднял вверх, к небу, дабы оно засвидетельствовало, что я признаю тебя своим сыном. А потом я устроил тебя в твоей детской.
* * *Что было дальше? Много чего. Я вспоминаю одну арлезианскую свадьбу, ночное празднество в предгорьях Альп. Тебе уже исполнилось три недели. Я нес тебя на животе, в сумке-кенгуру, согревая теплом своего тела. Окружающие удивленно смотрели на мужчину, расхаживающего с младенцем в такой поздний час. Их удивляло и то, что ты мирно спал, прижавшись ко мне. Вокруг дома росли высокие деревья, благоухавшие по вечерам; в камине, потрескивая, плясал огонь, я трогал твою кожу и вдыхал твой запах – запах молодой плоти, запах молока и миндаля. Я гордился ею, и ты, надеюсь, тоже. Нам предоставили большой дом с садом. Было еще тепло. Ты впервые увидел природу и улыбался, лежа на траве в своем полосатом комбинезончике и дрыгая ножками. Ты был очарователен, что здесь, что в поезде, что в отеле «Nord-Pinus», где мы пили белое вино среди гигантских фотографий Питера Берда. Ты внимательно смотрел на огромных слонов и тигров, на пятна крови, которыми Берд испещрял свои снимки. И мы были счастливы с тобой.
На самом деле это я был счастлив. А Пас… Она выглядела какой-то отсутствующей, угнетенной. Я понимал, что дела плохи, по смехотворно малому количеству твоих снимков. Но этого ты тоже не должен знать. Все-таки она фотографировала тебя, хоть и ничтожно мало. Однажды, когда мы сбежали из Парижа, я спросил: «А где твоя „Лейка“?» «Оставила в городе», – ответила она. Заметь: не «забыла», а «оставила».
Вспоминаю, как ты впервые увидел море. Это было в октябре или ноябре, в Сент-Адрессе, рядом с Гавром, в том месте, где кончается пляж, – его называют «Конец света». Дорожка, идущая вдоль моря, внезапно обрывается перед каменной осыпью. Скала, усеянная окаменелостями, большей частью аммонитами, которые я собирал в детстве вместе с отцом, возносит к небу огромные красно-белые радары, которые вращаются на ветру. Какой-то магический свет, как всегда, заливал окрестности; солнце пронзало серо-голубые облака, и его лучи рассыпались тысячами бликов на поверхности моря, на его зеленых волнах с пенными белыми гребнями, за которыми далеко на горизонте лениво, словно сытые киты, проплывали силуэты нефтяных танкеров. Великолепное зрелище! Соленый воздух бодрил нас, твоя мать стояла рядом, буйный ветер трепал ее черную астурийскую гриву. Она запахивала свой дождевик, укрывая от холода груди, полные молока. Ты, как всегда, висел в «кенгурушке» у меня на животе, уткнувшись мне в шею. Вдали виднелась колокольня Святого Жозефа – эдакая постмодернистская бетонная вышка, вполне объяснявшая название городка – Манхэттен-Приморский. Я подошел к самой воде, осторожно ступая по скользкой рассыпчатой гальке, которую лизали волны, присел на корточки, смочил руку в пене и брызнул несколько капелек тебе на лоб. Ты улыбнулся; твой рот был тогда не шире двух сантиметров.