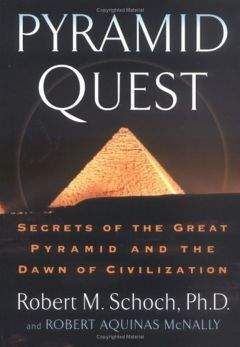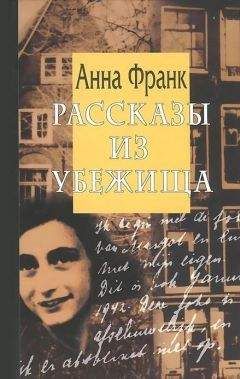Аннелиз - Гиллхэм Дэвид
— Разве ты не любишь сюрпризы? — удивляется Ханнели. Они спешат домой после школы, держа в руках сумки с учебниками. Теперь приходится ходить пешком: евреям запретили велосипеды. И трамваи. И ходить в парк. И не поплаваешь в бассейне в Амстельпаркбаде, не покатаешься на коньках и не поиграешь в теннис в Аполлохале — все это теперь только для христиан. Правда, сейчас это и неважно. Шли последние учебные дни перед летними каникулами. И в ветреный безоблачный день, вот такой, как сегодня, можно вдыхать сладковато-соленый бриз и слушать болтовню чаек. И она чувствует такую легкость в теле, что можно улететь на ветерке — а почему бы и нет?
— Я сама не своя от сюрпризов, — задумчиво говорит Ханнели. — По мне, так половина радости от дня рождения — это сюрприз! — Ее каштановые волосы заплетены в две косички: иногда Анна ревниво смотрит на них, но это ревность с примесью восторга. Когда-нибудь она дернет за них хорошенько. Вместо этого она высказывает свое мнение.
— А по мне, вокруг сюрпризов слишком много шума. Я лучше получу то, что хочу, — убежденно произносит Анна, и тут же у нее сжимается сердце в груди. Раздается сердитый раскат грома: это проносится мимо, отравляя воздух, немецкая мотоциклетная эскадрилья: стальные шлемы и защитные очки. Анна морщится, прижимая к груди сумку с книгами так, что не видно желтой звезды, хоть и знает, что это запрещено. Лис же просто пялится на них в молчаливом ужасе, зажав руками уши: ее звезда Давида прекрасно видна — как будто мотоциклистам есть дело до двух тощих еврейских девочек на тротуаре.
— Какие же они звери, — выдыхает Анна.
Лис убрала руки от ушей, но тревога не ушла с ее лица.
— Я спросила папу, может, нам тоже стоит спрятаться?
— Правда? — спрашивает Анна, оживляясь. — А он что сказал?
— Спросил: «От чего спрятаться?» — безучастно говорит Лис.
Анна качает головой.
— Не хочу говорить об этом, — внезапно решает она. И тут же ощущает желание пошалить. Так, что даже во рту защипало, как от острого перца.
Впереди на тротуаре компания мальчишек постарше. Они собрались вокруг невысыхающей лужи на углу у лавки табачника, галицийкого еврея, на Эйтерварденстраат: поговаривают, что тут торгуют из-под полы запрещенным товаром, а сам хозяин скупает у евреев ценности. Анна слышала об этом от господина ван Пелса, Пимова партнера по бизнесу.
— Подобные махинации беспокоят все больше, — сказал он однажды, заглянув к ним на кофе. — Прячете украшения под полом, чтобы не нашли немцы? Фамильное серебро — под кроватью? Позолоченную прапрапрабабкину менору — на дне корзины для белья, не зная, чем кормить семью? Почему бы не смириться с неизбежным и не продать это галичанину? Всяко лучше, чем идти в грабительский банк. Вам перепадут гроши, но хотя бы от собрата-еврея.
— Грабительский банк? А что это? — пожелала знать Анна; ей нравится знать все. Что в этом плохого? Мама шикнула на нее, но Пим, по своему обыкновению осторожно, разъяснил. Среди прочих унижений евреев обязали сдать все ценности в отделение банка Липпман — Розенталь и Ко на Сарфатистраат. Естественно, теперь он принадлежит нацистам.
В этот момент госпожа ван Пеле, отнюдь не тихоня, высокопарно заявила:
— Какой бы голодной я ни была, Путти, я не позволю тебе продавать мои меха. Сначала меня в них похоронят! — И ее супруг расхохотался.
— И ведь нисколько не шутит! — заверил он собравшихся с широкой ухмылкой.
Один из парней пинал трещину в дорожном покрытии, выбрасывая оттуда мелкие камешки. Другой вдруг засмеялся — смехом, похожим на ослиный крик. Над чем — да кто их, мальчишек, разберет? На свитерах и куртках у каждого — звезда Давида. Может, маме и нравится думать, что если уж и приходится носить магендовид на людях, то надо делать это с гордостью, но эти мальчишки относились к этим звездам так, как следовало бы. Как к символам отвержения. Второсортности. Эти нашивки подчеркивают их положение чужаков. Одежда обтрепалась, волосы растрепаны; на приближающихся девочек смотрят с мрачным интересом, характерным для уличных хулиганов.
— Не смотри на них, — шепчет Лис; она уже опустила глаза, смотрит под ноги. Но Анна не спешит следовать примеру Ханнели. Она знает: по мнению подруги, она слишком много думает о мальчиках. Но это не то что глупо кокетничать с благовоспитанными одноклассниками. В глазах этих мальчишек она читает дерзость и вызов.
— Курить хотите? — спрашивает один, протягивая окурок. Одет в лохмотья, выглядит неухоженным.
— Нет! — твердо отвечает Лис.
Но Анна останавливается.
— Анна! — потрясенно шепчет подруга, толкая ее в бок.
— Это всего лишь сигарета, — упирается Анна. — Я никогда не пробовала.
Лишь на миг она ловит любопытство и насмешку в его глазах, принимая окурок из его пальцев. Сует, слегка влажный от слюны, себе в рот и залихватски, по собственному убеждению, затягивается. Но тут же закашливается: в горле защипало от едкого дыма. Да, Греты Гарбо из нее не выйдет. Лицо покраснело, из глаз текут слезы. Она бездумно бросает окурок, Лис хватает ее за руку и тащит прочь.
— Анна… — сочувственно и в то же время укоризненно говорит она.
— Только маме своей не говори, — выдавливает из себя Анна, а парни хохочут им вслед.
— Что? Моей маме? — удивляется Лис.
— Пожалуйста, не говори, — умоляет Анна, вытирая слезы, — она будет думать, что я помешана на мальчиках. Она уже думает, что я всезнайка.
— Вовсе она так не думает! — По тону Лис непонятно, кого она хочет защитить: мать или Анну.
— Думает! — настаивает Анна. — Ты сама слышала: Богу известно все, а Анне — все остальное.
— Это была шутка!
— Нет. Это правда. Я и есть всезнайка.
— Хорошо, — соглашается Ханнели. — И помешана на мальчиках. Но мы все равно тебя любим.
И тут Анна смеется. Втягивает в себя слезы и обнимает Лис за плечи. Милая Лис! Но тут же произносит:
— О нет!
— Что — нет?
— Доброе утро, госпожа Липшиц, — нараспев произносит Анна с должной вежливостью при появлении почтенной дамы среднеевропейской наружности со звездой на пальто.
— Доброе утро, деточка, — неодобрительно откликается означенная госпожа, проходя мимо: на плече висит хозяйственная сумка, на лице застыло сердитое выражение.
— Вот теперь у меня точно неприятности, — предсказывает Анна с ужасом в голосе, когда они отходят на безопасное расстояние.
— Это еще кто?
— Госпожа Липшиц. Я зову ее Старая Проныра. Вечно ищет, к чему бы во мне придраться. Если она видела, что я пытаюсь курить, сразу же пойдет к маме. — Анна фыркает. — Ладно, теперь-то что. Я хочу соленый огурец!
Она увидела на противоположной стороне улицы торговца с тележкой. «Самые вкусные огурчики в городе!» — кричит он прохожим. Девочки смеются, отправив в рот по половинке крошечного огурчика: на вкус он орехово-сладкий с привкусом мускатной приправы. На Зёйдерамстеллаан Анна и Лис расстаются: на прощание Анне внезапно хочет обнять подругу — просто так. Лис, кажется, не возражает.
Но, шагая по Делтастраат с сумкой книг через плечо, Анна чувствует, что прилив веселья покидает ее; взамен в сердце поселяется колючее, непрошеное и невесть откуда взявшееся одиночество. Она старается подбодрить себя, откусив еще кусочек хрусткого огурца, но на самом деле ей хочется лишь избавиться от табачного запаха, и она выбрасывает его в сточную канаву. Если ее застанут родители, притворится, что у нее болит живот — в это они легко поверят. Мама всегда сетует, что она «такая болезненная». С конституцией, из-за которой к ней липнет все, что может прилипнуть. Но и правда — болело так, будто какой-то крюк тащил ее в черную дыру. Может, из-за сигаретной затяжки. От горького дыма кружится голова и перехватывает дыхание. Она останавливается и обнимает фонарный столб. Этой Анны она не показывает никому. Анны, которой очень страшно. Беспомощной Анны на краю одиночества и пустоты. Для Анны, которая хочет стать знаменитой, это не пойдет. Ухватив себя за запястье, она считает пульс и пытается унять волнение. Мама скажет: ты просто нервный ребенок, как многие девочки, и даст выпить валерьянки. Но Анна то знает: это куда больше, чем девичья нервная возбудимость. Когда это находит на нее в полную силу, ей кажется, что ее вот вот поглотит черный туман. Этот страх знаком ей с тех пор, когда она еще не умела осознать его. Страх, что за всеми ужимками и улыбками маленькой госпожи Всезнайки она — всего лишь пустое место. Что в ней нет ничего настоящего и ей остается лишь притворяться и воображать, но путного из нее не выйдет, потому что никто не полюбит ее и не узнает получше, и что ее сердце прах и в прах обратится.