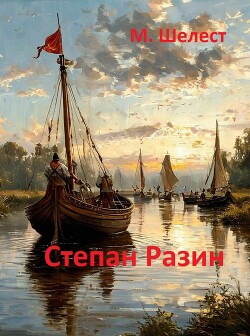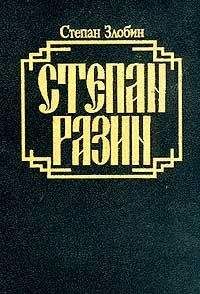Степан Разин. 2 (СИ) - Шелест Михаил Васильевич
— Правильно, или не правильно, то нам не ведомо, а ежели народ за веру поднимется, то и нам, куда деваться.
— Тогда и я тебе скажу, раз уж ты откровенен со мной. Волгу я вам на разграбление не отдам. За каждый малый городок буду стоять насмерть. Так, что по Волге даже не пытайтесь идти. Все мои силы, а ты знаешь сколько их у меня, будут стоять от Астрахани до Казани. И сколько кораблей у меня, ты тоже знаешь.
Демидка вздохнул и, глядя мне в лицо, произнёс:
— Зря ты так, Степан Тимофеевич. Супротив народа идёшь.
— Супротив смуты я иду, Демидка. И вам не советую смуту поднимать. А то ведь позволишь вам Астрахань взять, а вы её туркам отдадите, или Персам. Не-е-е… Астрахань моя, ежели, что… Хе-хе…
— Твоя? — удивился Яицкий атаман.
— Моя, Демидка. Ежели вы Москву возьмёте, я всю среднюю и нижнюю Волгу заберу.
Демидка воззрился на меня с удивлением, а потом рассмеялся.
— Ах, ты — хитрец, Степан Тимофеевич! Ах — хитрец! Ха-ха! Значит, Волга, говоришь — твоя⁈ Ну, пусть так и будет! Через Дон мы пойдём. Так ещё и лучше будет. Заодно зажравшихся на казённых харчах «домовитых казаков» прищучим. Чтобы не оставлять их у себя за спиной.
МЫ посмотрели в глаза друг другу.
— Бывай, брат, — сказал Шустрый.
— Бывай, брат, — сказал я, и мы обнялись.
Из истории я помнил, что «тот» Степан Разин на Волге устроил форменный террор. Он не только грабил города, изымая казну и казня воевод со слугами, но и перекрыл продовольственное снабжение Московии. Разин топил баржи с солёной рыбой и икрой. А солёная рыба была источником соли для малоимущих слоёв населения. Соль была так дорога, что бедняки использовали селёдочный рассол. Да и из селёной сельди варили похлёбки и каши. Да и дешёвая слегка подтухшая паюсная[2] икра шла на прокорм беднякам. Да, даже в старом рассоле солили новую рыбу. Вот такие времена были. А Разин канал поставки соли в верховья Волги перекрыл.
А на Волге и в её окрестностях соли было много.
По сути, я считал, что действия «того Степана Разина» на Волге имели чисто диверсионных характер. Чтобы и в другой России народ поднялся против царской власти. И он, Степан, надо сказать, своего добился. Во многих городах и весях «полыхнуло восстание». Только он, Разин, туда не дошёл, споткнулся о Симбирск. Слишком уж крепость Симбирская оказалась крепка.
Да и что говорить… Ров с трёх сторон Симбирской крепости был шириной до двадцати и глубиной до десяти метров. А со стороны Волги был откос, называемый горой. А на стенах, толщиной в четыре метра, стояли пушки, которые, в отличие от других крепостей при осаде их Разиным, почему-то стреляли. Хе-хе…
Убедившись с помощью соглядатаев, что все, ушедшие от меня, атаманы снова пообщались с Васькой Усом и разъехались. Ус поехал вместе с Тимофеем Пушкарём на пушкарёвских стругах по реке Царице в сторону переволоке на Дон. Остальные, — кто куда. Я, определившись, что всё идёт по плану, отписав царю о зреющих событиях с прогнозом бунта, немного снизив степень накала народного гнева, отправил письмо в Москву и уехал на Ахтубу, где провёл в хлопотах по хозяйству, какое-то время, а потом через Каспий поднялся по Яику на реку Сакмара до крепости Бердск.
Там помог установить и подключить мои насосы, необходимые для орошения садов и огородов, проревизовал бухгалтерские и складские книги, скатался в верховья Сакмары на трёхдневную рыбалку и охоту, заодно проведя разведку окрестностей, на предмет наличия шаек воровских калмык и ногайцев, а к октябрю шестьдесят седьмого года вернулся в Симбирск.
По пути в Симбирск во время остановок на Ахтубе и Царицыне, собрал сообщения от агентов о деятельности Васьки Уса и его главных сподвижников: Пушкаря и Горбыля. Информаторы сообщали, что Васька начал рассылку писем, в которых призывал всех «правых христиан» на Дон, да на Хопёр. Сообщали ещё, что на острове чуть выше устья Северского Донца Васька Ус поставил станицу, где собирает и тренирует войско.
Доносили, что на острове шумно, то и дело вспыхивают ссоры и свары. Об острове знают в станице Черкасской и называют то сборище «кагалом[3]», а остров Кагальником.
Я когда-то вовремя вспомнил, что и в «той истории» остров «Кагальник» имел место. И место, замечу, удобное. Северский Донец знатная река, на которой сейчас осели многие отряды русской армии, что воевали с поляками, основав новые русские казацкие поселения. Небольшие, домов по сорок-пятьдесят… Кое-где побольше. Но главное, на Северском Донце, в километрах трёхстах, уже давно нашли и добывали соль. А соль — всему голова, кхе-кхе… То есть можно было жить, и можно расселять беглых крестьян.
Мы об этом когда-то говорили с Васькой Усом. Мы нацеливались на те земли. Война с Польшей мешала, но я знал, что она окончится и я готовил будущее восстание. На про Кагальник я помнил, только не знал, где он находился у «того Степана Разина». Вот и определил место, которое посчитал удобным. Васька действовал по моему плану.
[1] Ерик — относительно узкая протока, соединяющая озёра, заливы, протоки и рукава рек между собой, а также с морем. Также речная старица…
[2] Паюсная — прессованная икра.
[3] Кагал — шумное сборище.
Глава 20
Воевода князь Иван Иванович Дашков был среди тех бояр, которые не приняли церковную реформу патриарха Никона. И на это ему, пока я ездил по делам, было указано царем Алексеем Михайловичем в государевой грамоте. Иван Иванович со скорбным выражением лица грамоту дал мне прочитать. В грамоте писалось «что он в церквах Божиих чинит раскол и по новоисправленным книгам церковным говорить не велит, и он бы от такого злаго дела начинания престал» и «чтоб он в церквах Божиих велел священникам служить по новым служебникам безо всякого пороку».
— Тут, Иван Иванович, плетью обуха не перешибёшь. Сказано читать по новым, надо читать. Раскольническая деятельность, Иван Иванович, не взирая на чины и звания, жестоко карается ссылкой в Якутск и отрезанием языков. Да не просто в Якутск или Байкал на поселение, а ещё и в яму. Оно тебе надо? Сия вотчина государева и находится под постоянным приглядом Алексея Михайловича и его дворовых.
— Да, как же так, Степан Тимофеевич? — старый воевода чуть не плакал.
Дашков вел свой рол от Рюриков, был близок ко двору и на многих торжествах, например таких, как свадьба в тысяча шестьсот сорок восьмом году царя Алексея Михайловича на Марией Ильиничной Милославской, находился рядом с троном. Он был сподвижником царя Алексея во многих его делах, а тут, на тебе! Царь взял и всё перевернул с ног на голову.
— В вот так, Иван Иванович! Сказано, что бурундук — птичка, значит — птичка. Ты думаешь Богу не всё равно, как мы ходим на крестном ходе: по солнцу, или против? Или сколькими пальцами осеняем себя крестом: двумя, или тремя? Не думаю, что это так уж и важно.
— А что тогда, то-твоему, важно? — спросил обиженно Дашков.
— Важно верить, что Бог отправил к нам своего сына, чтобы он на себе показал, что наше тленное тело, подверженное страстям, может стать бессмертным и нетленным, если мы хотя бы на малую толику поверим в него. Чтобы мы поняли, что только признание нашего ущерба и покаяние, вернёт нас к Богу. Вот и всё. А как мы при этом станем креститься и молиться — вторично. Старцы удовлетворяются короткой молитвой: «Господи, помилуй».
Дашков смотрел на меня, почти выпучив глаза.
— Как ты можешь? А наши отцы?
— Иван Иванович, — со вздохом попросил я, — давай о деле? Оставим споры священникам и богословам. Нам с тобой нужно не опростоволоситься перед государевым двором. Ты, понятное дело, за всё тут отвечаешь, а меня только своё хозяйство беспокоит, да осенний караван с продовольствием.
— Да, какие тут споры? Всё! Поспорили! — Дашков махнул рукой. — Собор поставил подписи, а государь грозит расправой… Что же будет?
— А что было, то и будет, — махнул и я рукой. — К этому всё и шло. Первыйгод, что ли, спорят? Церковники сами виноваты. У них семь пятниц на неделе. Кто в лес, а кто по дрова. Вот Алексею Михайловичу и надоело. Всё, Иван Иваныч, давай прикинем, что у нас в этом году получилось