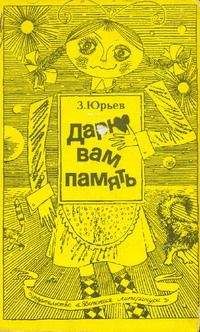Уорд Мур - Дарю вам праздник
— Господи… это что-то очень редкое?.. Или что?
— Дождевик, — едва сумел выговорить я. — Не пойдет. Мы успели наполнить вторую пару лукошек, а я все еще двух слов связать не мог. Сердце заходилось; уверен, его судорожные толчки Кэтти могла бы увидеть, если бы присмотрелась. И несколько раз мне показалось, будто она поглядывает на меня с любопытством.
— Давай-ка перекусим, — хрипло предложил я.
Наломав лапника, я свил на влажной земле вполне сносное гнездо, сухое и мягкое; Кэтти достала нашу скромную снедь.
— Умираю с голоду, — призналась она и виновато добавила: — Вот, только яички.
Мы принялись за еду — она ела, я делал вид. Я был ошеломлен и напуган. Я насмотреться не мог, как ладно она движется, как поворачивает голову, как аккуратно откусывает; но, стоило ей взглянуть мне в лицо, я отводил глаза.
— Ну, ладно, — наконец проговорила она. — Думаю, хватит нам бездельничать. Вставай, лежебока, за работу.
— Кэтти, — прошептал я. — Кэтти.
— Что с тобой, Ходж?
— Подожди.
Она послушно замерла. Приподнявшись на локте, я наклонился над нею. Обнял. Она опять заглянула мне в глаза — без испуга, но вопросительно. Лишь когда я потянулся к ней губами, она чуть повернула голову — и подставила мне щеку. Она не сопротивлялась, но и не отвечала, оставалась равнодушной, и продолжала искоса смотреть на меня тем же вопросительным взглядом.
Я обнял ее крепче, наваливаясь и прижимая к еловым ветвям. И все-таки нашел ее губы своими. Потом стал целовать ее глаза, и шею, и снова губы. Она не закрывала глаз; и не отвечала. Я расстегнул верхние пуговицы ее платья и прильнул лицом к ее груди.
— Ходж.
Я не реагировал.
— Ходж, погоди. Послушай. Если ты именно этого хочешь — все будет по-твоему, ты знаешь. Но ты должен быть уверен, Ходж. Совсем уверен.
— Я хочу тебя, Кэтти.
— Хочешь? Действительно — меня?
— Я не понимаю, что такое «действительно». Я хочу тебя.
Но момент был упущен. Я совершил фатальную ошибку, начав слушать ее и отвечать. Со злостью я отодвинулся. Встал, поднял лукошко и угрюмо пустился на поиски грибов. Руки все еще дрожали. И ноги. И, будто стремясь совсем меня добить, облака закрыли солнце; в лесу сделалось сумеречно и промозгло.
— Ходж.
— Ну?
— Пожалуйста, не сердись так. И не стыдись. Я не могу этого видеть.
— Я не понимаю.
Она засмеялась.
— Дорогой мой Ходж! Не это ли мужчины говорят женщинам всегда? И всегда ли это правда?
И вдруг день перестал казаться испорченным. Напряжение схлынуло; мы бодро рыскали по полянам, со странным удовлетворением ощущая себя такими невинными, будто только что родились.
После этого я даже в минуты близости с Барбарой не мог не думать о Кэтти; впервые ревность Барбары стала небезосновательной. И я почувствовал вину перед обеими — не потому, что хотел обеих, но потому, что каждую хотел не всецело.
Теперь, спустя много лет, я кляну себя за то, что упустил то восхитительное мгновение. Я медлил и колебался, будто мне отпущена вечность. Тисс не солгал — я был созерцателем, отданным на волю чужих поступков, на волю событий, кидавших меня, куда захотят.
16. ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ
— Не могу даже вообразить более пустого занятия, — сказал Кими, — чем быть в наши дни архитектором в Соединенных Штатах.
Ее муж усмехнулся.
— Ты забыла добавить — архитектором азиатского происхождения.
— Никогда этого не пойму, — проговорила Кэтти. — Я, правда, не все хорошо помню, но мне кажется, испанцы совсем не такие расисты. И уж, конечно, португальцы, французы и голландцы тоже. Даже англичане не так уверены в полном превосходстве англосаксов. Только здесь, в Соединенных и в Конфедеративных Штатах, о людях судят исключительно по цвету кожи.
— В случае с Конфедерацией все просто, — ответил я. — Там миллионов пятьдесят граждан — и двести пятьдесят миллионов жителей. Если бы культ белого превосходства не стал краеугольным камнем политики южан, тех, кто правит, трудно было бы распознать на вид. И так бывают накладки — если, например, сильно загорел. Вот у нас посложнее. Вспомни, мы проиграли войну. Самую важную войну в нашей истории — а вопрос цвета кожи играл не последнюю роль в том, что она началась.
— В Японии, — сказал Хиро, — на айнов, людей с более светлой кожей, всегда смотрели свысока. Это как с христианами. Христиан в свое время загнали в подполье, а они вскоре загнали в подполье евреев. В Испании, в Португалии…
— Евреи, — неуверенно повторила Кэтти. — А разве они еще есть?
— Есть-есть, — ответил я. — Несколько миллионов сохранилось в Эретц-Уганде, которой англичане дали статус самоуправляющегося доминиона еще при первом лейбористском кабинете, в 1933 году. Да много где. Кроме Германского Союза, разумеется. Там после избиений 1905-1913 годов их нет совсем.
— Это было посерьезнее, чем избиение азиатов здесь, — вставил Хиро.
— Гораздо серьезнее, — согласился я. — В конце концов, азиатов хоть немножко, да уцелело.
— Например, мои родители, или родители отца Кими. Насколько японцы в Америке счастливее евреев в Европе!
— А у нас тоже есть евреи, — заявила Кими. — Я недавно встретила одну. Она была теософка, и сразу начала убеждать меня познать мудрость Востока.
— Есть, но очень немного. К концу Войны за Независимость Юга по обе стороны границы их было тысяч двести. После выборов 1872 года Приказом номер 10 генерала Гранта евреи были высланы из Департамента Миссури. Президент Линкольн тут же отменил приказ, а президент Батлер задним числом подтвердил снова, хотя территория эта нам уже не принадлежала. С тех пор к евреям относятся, как и ко всем прочим цветным — неграм, азиатам, индейцам, выходцам с южных островов… Нежелательные элементы. Хочешь остаться — раскошеливайся на взятки, нет — проваливай из страны.
— Хватит о грустном, — сказал Хиро. — Давайте-ка я расскажу вам о реакции водорода с…
— Нет, пожалуйста! — взмолилась Кэтти. — Я хочу послушать Ходжа!
— Господи помилуй! — воскликнула Кими. — Да ты только этим и занимаешься. Я думала, надо сделать перерыв, чтобы тебе вконец не надоело.
— Скоро она выйдет за него замуж, — возвестил Хиро. — Уж тогда бедняге не дадут под предлогом беседы читать лекции.
Кэтти густо покраснела. Я засмеялся, чтобы как-то снять неловкость. Кими проговорила:
— Свахи нынче не в моде, ты отстал от времени, Хиро. Боюсь, ты до сих пор уверен, что женщина должна почтительно следовать за мужем в двух шагах позади. А на самом деле Соединенные Штаты — единственная страна, где женщины лишены права голоса и не могут входить в состав присяжных.
— За исключением штата Дезерет, — напомнил я.
— Это всего лишь приманка. Мормоны дали нам равноправие, потому что им вечно не хватает женщин.
— Я слышал иное. Мормоны — сами они называют себя Святыми Наших Дней
— стали одной из наиболее благополучных социальных групп в стране. Женщины из года в год стремились к ним, там легко выйти замуж. А все филиппики насчет полигамии — завистливое вранье мужчин, которые не пользуются у женщин успехом.
Кэтти глянула на меня и тут же отвернулась.
Я долго гадал потом, о чем она думала в этот миг. О том, с каким гневом Барбара накинулась бы на эту мою поправку? Или о том весеннем дне? Или о том, что пятью минутами раньше ляпнул Хиро?
Я сам думал об этом.
Еще я думал о том, как легко вписалась Кэтти в паши уютные посиделки с Агати и как непохожа она на Барбару даже в этом; жутко и представить, в каком напряжении находились бы все, очутись здесь Барбара. Барбару можно было любить, или ненавидеть, можно было испытывать к ней неприязнь и, наверное, даже можно было оставаться к ней равнодушным; одного было нельзя
— чувствовать себя в ее присутствии уютно.
Окончательный выбор — хотя, что такое окончательный? не знаю; и не узнаю уже никогда — определился где-то к концу моего шестого года в Хаггерсхэйвене. В ту пору мы были с Барбарой вместе так долго, как, по-моему, ни разу прежде, и я даже начал прикидывать, нет ли шансов установить некое парадоксальное равновесие, которое позволило бы мне без скандалов оставаться любовником Барбары и при том не утратить радостей, даваемых чистой дружбой с Кэтти.
Когда вражда наша затихала, Барбара начинала подчас рассказывать, как идет работа — хотя, вообще-то, если исключить редкие моменты доверительности, посвящать меня в таинства своей науки было не в ее правилах. Эта форма близости резервировалась за Эйсом, и я отнюдь не завидовал ему уже потому хотя бы, что он более-менее понимал, о чем идет речь, а я — нет. Но на сей раз, видимо, ее так переполняли ее ученейшие переживания, что она не могла сдержаться даже в разговоре с человеком, едва отличающим термодинамику от кинестетики[34].
— Ходж, — сказала она; обычно серые глаза ее от возбуждения стали зелеными. — Я не стану писать книгу.