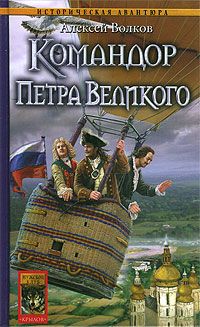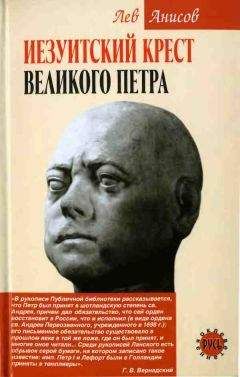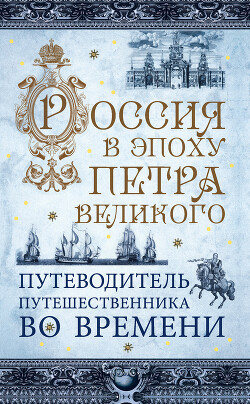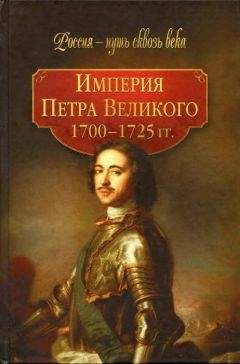Инженер Петра Великого (СИ) - Гросов Виктор
Третье, и самое сложное для местного менталитета — это техническая документация. То есть, чертежи. До этого всё делалось либо «по образу и подобию», либо по устному описанию мастера. Я же упорно продолжал рисовать свои эскизы на бумаге (которую по-прежнему с трудом доставал Орлов), стараясь делать их как можно понятнее — с размерами, с разрезами, с пояснениями. Сначала мастера смотрели на эти «картинки» с недоумением. «Чего тут намалевано, Петр? Ты б лучше на пальцах показал!» Но я терпеливо объяснял, показывал, как по чертежу можно понять форму и размеры, как себя проверить. Заставлял своих учеников копировать чертежи, разбираться в них.
Постепенно дело сдвинулось. Мастера поняли, что по чертежу работать всё-таки удобнее и точнее, чем по памяти или на словах. Особенно когда делали что-то новое, незнакомое. Чертеж давал четкое представление, что надо сделать. Мои ученики, Федька и Ванюха (Гришка был больше по железу), оказались на удивление способными к черчению и быстро научились не только читать мои эскизы, но и сами делать простейшие зарисовки деталей. Это было огромное подспорье. Теперь я мог дать им чертеж и быть относительно уверенным, что деталь будет сделана правильно.
Конечно, все эти мои нововведения — разделение труда, стандартизация, чертежи — были тут в самом зачаточном состоянии. Но это были первые ростки новой организации работы, основанной не на интуиции и привычке, а на расчете, точности и системе. Я видел, как меняется отношение к работе у тех, кто был в это вовлечен. Они начинали понимать, что делают не просто какую-то железяку, а часть сложного механизма, где всё связано. И это понимание делало их работу более осмысленной и ответственной. Старые мастера ворчали, но в глубине души, мне кажется, гордились тем, что причастны к созданию чего-то нового, невиданного. А для меня это было главным — не просто построить станок, но и заложить основы для будущего, подготовить людей, способных работать по-новому.
На первых порах мои пацаны — Федька, Ванюха и Гришка — просто горели на работе. Еще бы! Из бесправных рабов на побегушках они попали в отдельную каморку, к «хитрому мастеру» Петру, который строил невиданные машины и был на хорошем счету у начальства. Работа была чище, чем уголь таскать или глину месить, да и жратвы, хоть и немного, но стало побольше — я старался их подкармливать из своих скудных запасов, понимая, что голодный ученик — хреновый ученик. Они ловили каждое мое слово, старались подражать мне во всем, глаза блестели от любопытства и гордости, что они причастны к чему-то важному.
Но эйфория быстро прошла. Начались трудовые будни. А будни требовали не только любопытства, но и усердия, терпения, а главное — совершенно непривычной для них точности и дисциплины. И вот тут-то полезло наружу всё старое — лень, нежелание напрягать мозги там, где можно было схалтурить.
Федька, самый шустрый и сообразительный, первым начал филонить. Ему быстро надоедало сидеть над моими эскизами, перерисовывая их на доски для мастеров. Начинал торопиться, линии кривые, размеры не сходятся. Я его поймал раз, другой, пытался объяснить:
— Федька, пойми ты, чертеж — это как приказ для мастера. Если ты тут на сантиметр ошибешься, то и деталь на сантиметр кривая будет! А потом она в машину не влезет! Понял? Точность нужна!
— Понял, мастер Петр, понял! — кивал он бойко, а через полчаса я снова ловил его на той же лаже.
Пришлось включать «кнут». За каждую ошибку в чертеже — переделывать три раза. За попытку скрыть косяк — оставаться после работы (которой у нас толком и не было, пахали пока светло) и драить инструмент или убирать стружку. Пару раз пришлось и рявкнуть, пригрозив отправить обратно воду таскать. Подействовало. Федька надулся, но стал работать аккуратнее, хотя энтузиазма поубавилось.
Тихий и старательный Ванюха с ленью проблем не имел. Но вот с пониманием… Объяснить ему, как работает даже самый простой рычаг или винт, было просто пыткой. Он слушал внимательно, кивал усердно, но через пару минут все забывал. Он не мог связать мои слова с тем, как эта железяка или деревяшка будет двигаться и что делать. Приходилось показывать на пальцах, рисовать на полу, строить модели из щепок. Иногда он вдруг «въезжал», и лицо его озарялось счастливой улыбкой — понял! В такие моменты я старался его похвалить, подбодрить («Вот видишь, Ваня, голова-то у тебя светлая, зря боишься!»), дать ему задание попроще, чтоб закрепить успех. Но чаще он так и оставался в прострации, и приходилось просто говорить: «Делай вот так, потому что я сказал». Это было неправильно с точки зрения педагогики, но другого выхода иногда просто не было.
Гришка же, который пришел из кузни, был полной противоположностью Ванюхе. Смекалки ему было не занимать, но вот привычка к грубой кузнечной работе въелась в него намертво. Заставить его работать напильником аккуратно, снимая металл по чуть-чуть, было почти нереально. Он норовил содрать всё одним махом, оставляя глубокие царапины. Когда я дал ему задание выковать несколько одинаковых скоб по шаблону, он сделал их все разными — где толще, где тоньше, где кривее.
— Гришка, я же тебе шаблон дал! Прикладывай, проверяй! — ругался я.
— Дык, мастер Петр, она ж железная! Чего ей будет? Держится — и ладно! На глаз вроде похоже… — оправдывался он.
Вот это «на глаз» и «держится — и ладно» было моим главным врагом. Приходилось объяснять снова и снова, что в машине, где детали должны точно подходить друг к другу, «на глаз» не прокатит. Что малейший перекос или зазор может привести к поломке. Пришлось и ему придумывать наказания — не за злость, а за раздолбайство. Запорол заготовку — иди к кузнецу, помогай ему уголь таскать или молотом махать сверх нормы. Не попал в размер — сиди и пили вручную до посинения.
«Пряником» для них всех была моя похвала (когда было за что), лишний кусок хлеба или даже ложка каши из моего скудного пайка (когда удавалось что-то раздобыть сверх положенного), а главное — ощущение, что они делают что-то важное. Я рассказывал им (конечно, без лишних деталей) о том, зачем нужны наши станки, как они помогут делать пушки лучше, как это важно для Царя и для победы над шведом. Старался разбудить в них не только страх перед наказанием, но и гордость за свою работу.
Получалось хреновастенько, честно говоря. Были дни, когда всё шло через жопу, руки опускались, и хотелось плюнуть на всю эту затею с обучением. Но были и моменты, когда я видел, что мои усилия не зря, что ребята начинают понимать, стараться, включать голову. Это был долгий, изматывающий процесс — лепить из этого сырого, необученного материала настоящих мастеров. Но без этого все мои станки и замки так и останутся единичными прикольными штуками, не способными изменить производство в целом. Кадры решают всё — этот лозунг из будущего был актуален и здесь, в петровской России.
Время шло, и моя маленькая «школа» начала давать первые всходы. Несмотря на все трудности, лень и тугодумие, мои пацаны — Федька, Ванюха и Гришка — потихоньку втягивались, осваивали новые для них фишки и, самое главное, начинали думать по-другому. Метод кнута и пряника, мои терпеливые объяснения на пальцах, а главное — то, что они своими глазами видели, как работают новые механизмы (токарный станок уже вовсю шуршал, обтачивая цапфы, а сверлильный потихоньку собирался в углу) — всё это делало свое дело.
Эти трое стали моей опорой. Они уже были настоящими помощниками, на которых можно было положиться. Понимали меня с полуслова, перенимали мои методы, мою требовательность к качеству. Глядя на них, и другие работяги на заводе начинали потихоньку менять свое отношение. Если уж эти вчерашние пацаны смогли освоить «петровские хитрости», значит, не так уж они и страшны?
Более того, к моей «команде» стали присматриваться и другие молодые подмастерья. Некоторые подходили, просили показать, объяснить. Я никому не отказывал. Если видел в парне реальный интерес и желание учиться, брал его «на карандаш», давал какое-нибудь простое задание, присматривался. Так у меня появилось еще несколько «кандидатов» в ученики.