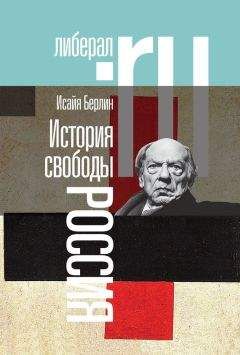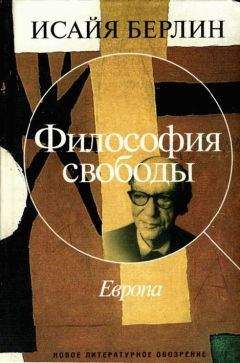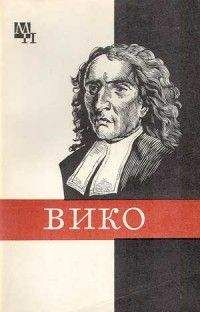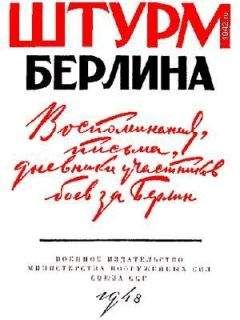Исайя Берлин - Северный Волхв
Хаманн вполне отдает себе отчет в том, что едва ли один читатель из сотни поймет его тексты, но он испрашивает для себя, с забавной смесью пафоса и высокомерия, такое же право, которое было Гераклиту даровано Сократом: тот, по мнению древних, верил фразам, которых не понимал, просто в силу высокой ценности тех, которые он все-таки понял. Он сравнивает собственную прозу с архипелагом изолированных друг от друга островов; и он не может перекинуть между ними мосты, потому что именно против этого сам же и выступает – против построения систем, сглаживающих все самое живое, индивидуальное, настоящее. Он был одержим видением мира в процессе воссоздания, постоянного и неостановимого. Его приходится описывать в терминах вынужденно статических. И речь не идет о каком-то неспешном поступательном развитии – Хаманн не историцист и не верит в саму идею развития, ну или, во всяком случае, она его на слишком интересует. По его мнению, мир не становится ни хуже, ни лучше. Но в нем есть исходная трансцендентная структура, та же, что и была от века, и все остальное представляет собой только ее отражение, аналогию или имитацию. В Эдемском саду, еще до изгнания из рая, Адам был с ней ознакомлен: «Адам был от Бога, и Бог поставил старейшего из нашего племени над миром, дабы он мог владеть им как собственной вотчиной и собственным наследством и дабы мир исполнился словом уст его»[286].
«Всякое явление природы было имя – знак, символ, обещание свежего, и потаенного, и невыразимого, но тем отчетливее личного, избирательного единения, сообщения между собой и единосущностью энергий и идей. Все, что в начале начал человек, слышал ушами своими, видел глазами, постигал или ощупывал руками, все было словом живым. Ибо Господь и был Слово. Со Словом в устах своих и в сердце своем, и природа языка была столь же естественной, столь же простой и близкой как детская игра»[287].
Этот темный и загадочный пассаж, уже приводившийся выше в связи со взглядами Хаманна на язык, позволяет нам ближе всего подойти к самой сути его взглядов. Именно здесь Хаманн высказывает мысль о единстве мысли и предмета, которые он называет словом и миром, как это уже не раз и не два делали до него мистики и метафизики: о нерушимом единстве мысли и чувства, которые еще не успели превратиться в непосредственность и знание, не разделились на субъект и объект, постигающего и постигаемое, не обнаружили ту границу, которую нынешний человек постоянно пытается превзойти. Всякий человек, согласно Хаманну, кем бы он ни был, когда и где бы ни жил, может выбирать из двух альтернатив. Первая состоит в искренней попытке понять, то есть, собственно, осознать, какой была эта изначальная структура бытия, в силу своих способностей (хотя, будучи существами конечными, люди в принципе не могут постичь ее целиком), через непосредственный опыт переживания истории ли, природы или чтения Слова Божьего, то есть Библии, каковая представляет собой попытку этого единства выразить себя на языке, доступном смертному человеку; вторая альтернатива заключается в том, чтобы закрыться, защититься от реальности через конструирование систем, через веру в институты, основанные на вошедших в привычку условностях, через жизнь в согласии с диктатом здравого смысла. «Есть три вещи ‹…›, коих мне не дано понять, а может быть, и четыре: здравомыслящего человека, занятого поисками философского камня; квадратуры круга; измерения моря; и человека гениального, который пытается рассуждать о вере средствами здравого людского рассудка»[288]. Бог – поэт: мир есть акт непрерывного творения в согласии с исходной структурой, которая не может быть сведена к системе правил, понять которую можно, только осознав, что всякое Божье создание есть предмет уникальный – что все явления и события равны только самим себе, но при этом они еще и символы, иероглифы, аллюзии, и отбрасывают свет на всякую из остальных вещей.
Вне зависимости от собственной значимости этого насквозь иррационалистического спиритуалистского мировоззрения, его ценность для истории идей (и практик) состоит в том, что оно было чем-то вроде перчатки, брошенной в лицо наукам, как эмпирическим, так и априорным, с их претензией на способность дать ответ на главные человеческие вопросы. Хаманн, по большому счету, признает только индивида и его нравы и считает, что любые попытки что бы то ни было обобщать ведут к созданию безликих абстракций, которыми постепенно людей и подменяют, и начинают видеть в индивидах что-то вроде сырого материала для этих самых абстракций, вследствие чего теории, сформулированные на языке все тех же абстракций, никак не затрагивают внутреннюю суть индивидов, которую они как будто должны были бы описывать и объяснять, а правовые, нравственные и эстетические системы – в общем, любые попытки сформулировать принцип действия – либо игнорируют индивидов, на чьем непосредственном опыте они в конечном счете и основываются, либо пытаются втиснуть их в очередное прокрустово ложе из правил, которое со всей очевидностью их калечит, а может и уничтожить совсем.
Если каждое слово, сказанное Хаманном в пылу очередной атаки на все абстракции на свете понимать буквально, то получится чистой воды бессмыслица. Без некоторой доли обобщения невозможны ни символы, ни слова, ни мысль как таковая. Всякий раз как мы что-то используем, чтобы означить с его помощью что-то еще – и оказываемся при этом на излюбленном для Хаманна спекулятивном поле, – с тем, что мы используем в качестве символа, производится операция обобщения в той или иной степени: оно изымается из естественной своей среды, какой бы та ни была, и начинает представлять что-то другое, с тем, чтобы выделить это другое на фоне прочих вещей, таких же, как оно или от него отличных, так что и символ, и то, что он символизирует, если они вообще рассчитаны на некое опознание с нашей стороны, могут оставаться таковыми только в результате обобщения. Наложить запрет на абстрагирование значит запретить мысль, самосознание, любые формы высказывания – свести опыт субъекта к ощущениям, медитации, грезам, будь то во сне или наяву, лишив его способности именовать пережитое. Хаманн со всей определенностью ничего похожего в виду не имел, но рассуждает он время от времени так, словно именно это он и хотел сказать; а его осуждение наук, привыкших возносить абстракцию превыше обыденной речи, превращается в отрицание их необходимой деятельности в их же собственных специализированных областях, в нападки на мысль как таковую, взятую в противопоставлении чувству и таинству художественного творения.
То принципиальное разграничение, которое Хаманн пытается провести между абстрактной мыслью и конкретным фактом, попросту не имеет смысла, а если довести эту затею до тех пределов, до которых доводит ее он сам, она превращается в слепой обскурантизм, в нападки на критическую мысль, на способность к какому бы то ни было различению, к формулированию гипотез, к рассуждению как таковому, – в нападки, причина которых кроется в отчаянной нелюбви к критике и, в конечном счете, к любой интеллектуальной деятельности. Однако, несмотря на то, что высказанное Хаманном зачастую представляет собой не взвешенное суждение, а избыточно эмоциональную публицистическую риторику, основное направление его мысли вполне очевидно. Как и Бёрк несколькими годами позже, он считает, что попытка перенести научные каноны на живые человеческие существа ведет к ошибочному и в конечном счете весьма опасному взгляду на то, что эти последние собой представляют – простой человеческий материал, поле действия физических, химических и биологических причинно-следственных связей – и, поскольку людей, настолько остро озабоченных единством теории и практики, еще не рождалось на свет, к бесчеловечному отношению к людям. Тот факт, что равная, если не большая степень бесчеловечности практиковалась теми, кто отрицал науку и вынуждал людей жить в бедности, невежестве и униженном состоянии, которого можно было бы избежать, не производил на него никакого впечатления. Людям зачастую свойственно видеть ясно только из одного окна.
Хаманн был фанатиком, и его взгляды на жизнь, несмотря на всю их искренность и глубину, и ту значимость, которая кроется в них для теологов и просто людей верующих, остаются – в качестве целостного мировоззрения – до нелепости односторонними: преувеличение, сверх всякой меры, уникальности каждого человека и каждой вещи или отсутствия в них значимых общих характеристик, способных дать почву для теоретических обобщений; отчаянная ненависть к человеческой потребности в понимании мира и самих себя, к способности выразить это понимание в общепонятных терминах и к тому, чтобы научиться управлять собой и природой и достичь в результате целей, общих для большинства людей и большинства эпох (если не заглядывать слишком далеко), опираясь при этом на полученное научное знание. Эта ненависть и этот слепой иррационализм подпитывали тот поток, который в итоге привел к иррационализму социальному и политическому, особенно в Германии, в нашем собственном столетии, и дал питательные соки обскурантизму, темным оргиям и попыткам дискредитировать тот призыв к рациональной дискуссии в терминах, внятных для большинства людей, единственно способной привести к приросту знания, к созданию условий для свободного, основанного на сотрудничестве действия, исходящего из свободного принятия общих идеалов, и к продвижению того единственного вида прогресса, который по факту это название заслужил.