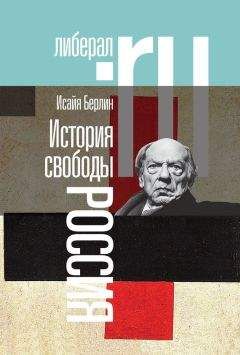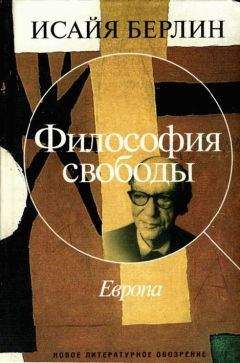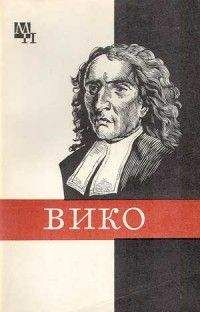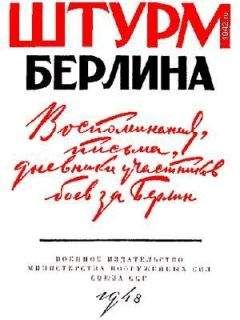Исайя Берлин - Северный Волхв
Хаманн восхищался Фридрихом Великим и как правителем именно что великим, и как человеком, наделенным «витальной теплотой»[265], но ни проводимая им политика, ни его мировоззрение Хаманну совсем не нравились, и прежде всего потому, что Фридрих ставил разум, организацию и эффективность превыше человечности, Бога, разнообразия, чувства; дабы создать холодную, элегантную, великолепно отлаженную, бездушную социальную машину, управляемую помешанными на логике софистами, «арифметиками от политики»[266], французами, голландцами и еще бог весть откуда завезенными, лишенными всего человеческого, похожими друг на друга как две капли воды существами; дабы окончательно унизить христианство и веру вообще и разрушать старое, интимно-провинциальное кёнигсбергско-рижское общество. Хаманн – пророк Илия, а Фридрих – свирепый царь Ахав, чьи подданные развращены и надменны, они язычники и богохульники, и заморили пророка голодом и холодом едва ли не до смерти. Они отобрали у него пять талеров ежемесячного жалованья, ну или во всяком случае француз-администратор сделал это от их лица, – и в итоге он остался без отопления. Сокращение это проведено было «противу всякой рифмы и противу всякого разума – а я уверен, что Ваше Величество ценит и то, и другое», обращается он к Фридриху в прошении о справедливости[267]. Хаманн – Иеремия, он автор псалмов, он переходит от проклятий и благословений к тяжеловесной игривости, негодованию, меланхолии, иронии, пророческому пылу. Пусть король вернется в христианскую веру, пусть он прогонит этих злобных язычников-французов, де Латра и Гишара, что питаются плотью его подданных. Фридрих – Нерон, или Юлиан Отступник[268], и никакой он не Соломон, он, опять же, Ахав. Намек здесь на то, что Фридрих обращается с Хаманном как Ахав с Навуфеем: он отобрал у Хаманна его Hausrecht[269]. Фридрих – антихрист философский, который занял место папистского антихриста[270]. Он продал Пруссию за пустопорожний космополитический идеал – иностранцам, софистам, лживым пророкам нового ислама (намек либо на Вольтера, либо на самого же Фридриха). Себя Хаманн характеризует как одного из «les petits Philosophes de grand-soucy», в отличие от «les grands Philosophes sans-soucy»[271]. Тираны и софисты суть враги рода человеческого: они ставят себя превыше стада, состоящего из простых людей[272]. За этим следует пассаж с карикатурой на представление Гердера о человеке как о венце творения, противопоставленном стаду зверей полевых. Фридрих – «прусский Соломон»[273], и он прекрасно понимает, что есть два способа править. «Подданных своих можно либо принуждать, либо обманывать»[274]. Но, понятное дело, правителям эту истину приходится скрывать – отсюда их лицемерие. Только Бог в состоянии любить и править. На земле же власть и милосердие суть вещи несовместные. Любить своих подданных значит стать для них либо обманкой, как сам Господь во всем Его величии, либо жертвой, как возлюбленный Его сын. Но если человек вознамерился чего-то в этом мире достичь, он должен повернуться спиной и к милосердию, и к власти. Кровь и золото – а они одни правят миром – суть орудия Дьявола. А именно их и пытаются сосредоточить в своих руках, Хаманн прозрачно намекает именно на это, Фридрих и другие подобные ему просвещенные деспоты.
Вообще, при упоминании о Фридрихе в тоне его начинают проскальзывать едва ли не истерические нотки. Фридрих – глава и вдохновитель заговора против веры, как в мыслях, так и в действиях. Временами он принимается самым непристойным образом обсуждать гомосексуальные наклонности Фридриха. И при всем том Хаманн остается, конечно же, вполне добропорядочным подданным своего монарха, квиетистом, противником сопротивления режиму, и в этом смысле, ничуть не хуже своего друга Канта, пруссаком, лютеранином, человеком, готовым повиноваться любому начальству и всеми силами избегать беспорядка. Разрушительные нотки звучат не слева, но справа, со стороны архаичной, уходящей, домашней, узколобой на самый что ни на есть провинциальный манер, полуфеодальной Пруссии, и направлены они против Rechtsstaat и представления о цивилизованном мире, лишенном границ. Его неудержимая ненависть к новым политическим идеалам передалась и Гердеру, который, может статься, вполне обошелся бы и без нее. Обоим куда комфортнее было среди обычаев и песен первобытных обитателей балтийского побережья, нежели в пределах нового, современного, с хорошо отлаженным управленческим аппаратом государства, имеющего под собой приведенную к единому знаменателю и беспристрастную систему изложенных ясным языком законов, управляемую хорошо обученными просвещенными чиновниками, где почти не оставалось места традициям и глухим закоулкам древних, привычных прусских институтов, чьи корни терялись в доримских временах. Ничего на свете Хаманн и Гердер не любили так сильно, как новые метлы, которые чисто метут, вне зависимости от того, какие бы жуткие напластования несправедливости и горя ни собирались под паутиной традиционных способов видеть мир[275].
Заключение
Ценного у Хаманна еще немало, и нелепого тоже. Его поклонение Гомеру и Шекспиру, нам сейчас не слишком интересно, поскольку этот триумф он и его ученики торжествовали уже давным-давно – пусть даже он и не был настолько бесспорным, как то может показаться, если мы вспомним не только о печально известных замечаниях Вольтера о Шекспире, но и о том факте, что великая французская Энциклопедия не удостоила Гомера отдельной статьей и что в написанной Дидро статье о греческой философии он назван «теологом, философом и поэтом»; засим следует отсылка к мнению «всем известного человека», полагавшего, что Гомера еще лет двадцать навряд ли станут широко читать, пусть даже сам Дидро и считает подобное высказывание «свидетельством отсутствия философского подхода и вкуса»[276]. Хаманн читал «Гамлета» с Гердером, и пускай сам он нигде о том не говорит, но его постоянные ссылки на собственную нерешительность, глупость, отсутствие практической жизненной хватки заставили исследователей предположить, что он хотя бы отчасти идентифицировал себя с Принцем Датским. В то же время не вызывает сомнения, что он считал себя гением и пророком: Сократ был его единственным настоящим предшественником.
«Ангел сошел… и возмутил Купель Вифезды, в пяти притворах коей лежало множество больных, слепых, хромых и немощных и ждали, пока вода возмутится. Так же и гений должен снизойти, дабы разрушить правила, иначе вода пребудет спокойной; когда же воды возмутятся, первым в них должен войти тот, кто хочет на себе испробовать силу и действенность правил»[277].
Здравый смысл есть враг: больные, дети и полубоги не переваривают здравого смысла, писал он пастору Линднеру, своему большому другу[278]. Линднер спросил его, а не может ли в конечном счете оказаться так, что хотя бы некоторые правила необходимы для поддержания порядка и достоинства, в искусстве равно как и в жизни; и не является ли, в конечном же счете, здравый смысл хлебом насущным для философов и критиков? Да, ответил он, «детишкам нужно молоко»[279], и в этом смысле кто такие человеческие существа, как не дети, взирающие на Небесного Отца своего снизу вверх, а тот удивляет их, когда захочет, озадачивает парадоксами, устраивает землетрясения, порождает войны и устами избранных пророков вещает весьма неприятные вещи. Моисей не дал сыновьям Израилевым спокойно остаться в пустыне. Гердеру очень нравилось описывать эстетику Хаманна как мозаику. С Гердером Хаманн вполне мог общаться, потому что Гердер казался ему похожим на ребенка, с душою девственной, как у Вергилия, в то время как Кант был холодным педантом и не понимал ничего, достойного понимания. Для Канта весь мир – вся природа – представляет собой мертвый, внешний по отношению к нему объект, который следует наблюдать, анализировать и навешивать на него ярлыки; релевантные концепции и категории надлежит должным образом изучить, установить их связи между собой, так чтобы затем с их помощью можно было описать и объяснить тот колоссальный автомат, каким для него является этот мир, и свести его к отшлифованной и сухой системе, которая, ежели она вообще верна, верной пребудет вовеки веков. Вне всякого сомнения, перед нами улучшенная версия куда более грубых механицистских взглядов французских материалистов, но предпосылки остаются все теми же: что все на свете можно свести к набору логически связанных между собой суждений описательного характера и что огромную и сложно устроенную вселенную людей, зверей, материальных объектов, жизни, души, земли и небес можно классифицировать и интерпретировать, используя при этом один и тот же систематически унифицирующий инструмент – истинную теорию, нечто такое, что любой человек, в достаточной степени беспристрастный, наделенный достаточно высокими способностями и мотивацией, способен сформулировать или во всяком случае понять.