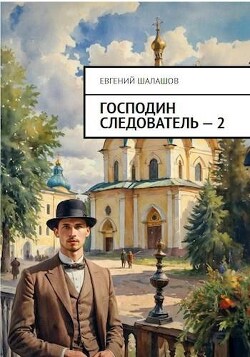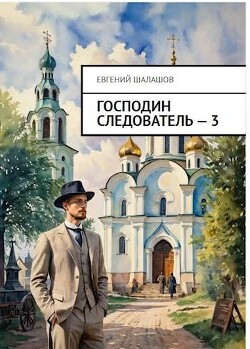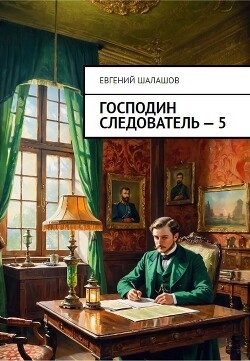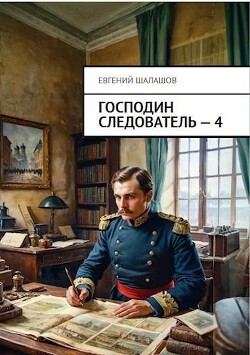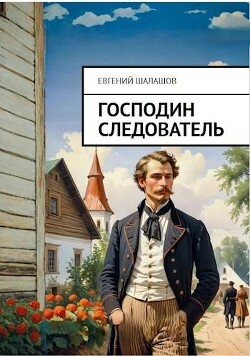Господин следователь 6 (СИ) - Шалашов Евгений Васильевич
— Спасибо.
Статский советник, читающий полицейские журналы, спросил:
— Будьте добры — назовите правовую базу нашей полиции? Что вы сможете сказать об источниках полицейского — то есть, общественного права?
Ну, тут я наговорю. Историк как-никак.
— Безусловно, можно выбрать точку отсчета еще со времен «Русской правды», потом перейти к Судебникам Ивана третьего и Ивана Грозного, коснуться «Соборного Уложения» Алексея Михайловича, — начал я, — но все-таки, первым источником права — в его классическом понимании, в 1718 году выступили «Пункты, данные Санкт- Петербургскому генерал-полицмейстеру», написанные государем Петром Великим. Эти пункты были конкретизированы в Указах Сената. Помимо инструкций генерал-полицмейстеру в 1721 году — уже императором Петром, была подписана инструкция Московскому обер-полицмейстеру.
— Благодарю вас.
Как? И это все? А я только-только разошелся. Надо еще про «Устав благочиния или полицейский» Екатерины Великой рассказать, о законотворческой деятельности Сперанского сказать, об «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных». И, вообще, во времена Петра полиции, как реальной структуры не было создано. Ее обязанности исполняли солдаты.
— Скажите, господин Чернавский… Какое значение имела военная реформа покойного государя императора на развитие народного образования?
Господи, а всесословная реформа-то здесь причем? Но отвечать придется. Что там у нас? Солдаты шли неграмотными в армию? Ага.
— На мой взгляд, всесословная реформа привела к тому, что повысилась грамотность российских солдат. Армейские офицеры были вынуждены организовывать различные школы при полках, батареях… Нижних чинов обучали основам грамоты — чтению и письму, четырем правилам арифметики, Закону Божиему. По сути — это школы грамотности. Через эти школы прошли миллионы русских солдат. При выходе в запас, они повышали общий уровень грамотности в России.
— Спасибо.
— Позвольте, — поднял руку, словно студент, человек, скромно пристроившийся с самого края. А он не в костюме, и не в мундире, а в рясе, с крестом. Сразу-то и не углядел.
Ох ты, сейчас зададут особо каверзный вопрос. Главное — взять себя в руки и не брякнуть что-то такое, о чем здесь говорить не стоит. Я же историю религии проходил, а не Закон Божий. Но еще хорошо, что не научный атеизм, как мой отец.
— Пожалуйста батюшка, — с почтением склонил голову декан.
— Молодой человек, а что вы можете сказать о семье?
— В каком смысле? — не понял я. — О семье можно говорить очень долго. Зависит от того, какой аспект выбрать. Это и таинство венчания — союз мужчины и женщины, заключённый через священнодействие в храме, это и функции семьи — экономическая, воспитательная…
А в девятнадцатом веке уже известны функции семьи, которые изучают в курсе обществоведения? Но батюшка не стал дослушивать, а прервал мою речь.
— Нет, господин Чернавский, я не о том. Сегодня частенько говорят о том, что церковные браки себя исчерпали. Имеются некоторые э-э радетели за свободные отношения, за сожительство. Дескать — традиционный, то есть, церковный брак, пусть и освещенный в храме, делает из женщины игрушку в руках мужа. Жена, да убоится мужа своего! Поэтому, мне хотелось бы узнать мнение молодого поколения, тем более, что вы живете в провинции.
— Я не смогу сказать за все поколение, могу лишь высказать собственное мнение, — осторожно принялся я повествовать. — Примеров сожительства привести не смогу, потому что не знаю (Вру наглым образом, да еще глядя в глаза священнику. Сам целых пять лет живу, то есть, жил со своей Ленкой!). Прошу прощения, если я вас разочаровал, но мне вообще сложно говорить о том, чего я не знаю. На мой взгляд, все те, кто выступает против церковного брака, не понимают, что тем самым они оставляют женщину без защиты, потому что в церковном браке ее защищает православная церковь. Если рассуждать — хорош или плох брак, заключенный в церкви, нужно сравнить его с чем-то иным. Допустим, с дохристианским. О нем нам известно мало, но, кое-что мы знаем. Допустим, взять Древнюю Грецию. Так вот, если сравнить христианский брак, с дохристианским, можно сказать, что церковный брак, как раз укрепил положение женщины в обществе. Жена стала не игрушкой мужа, не его собственностью, а словно бы его частью. Господь создал первую женщину из части мужского тела, а потом, когда эта часть облеклась в плоть, она же вернулась к мужу, к мужчине. Только ненормальный станет относиться плохо к своему телу. Церковный брак требует моногамных отношений, а раньше допускалось и многоженство. В ранние времена брак был только сделкой между семьями, женщину никто не спрашивал — желает она того или нет, а церковь требует согласия обеих сторон. Мне могут возразить — девушку запугали, силой привели под венец, но это уже не вопрос к церкви, а тем людям… к родственникам невесты, которые заставляют ее выйти замуж против воли. Но женщина имеет право отказаться. И в браке у супругов имеются обязанности. И муж обязан соблюдать верность жене, и он не имеет права, как в дохристианские времена попросту выгнать ее из дома…
— Господин Чернавский, — перебил меня кто-то из преподавателей. — А разве сегодня муж не выгоняет жену из дома? Да сплошь и рядом.
— Бывает, — не стал я спорить. — Но все равно мы рассматриваем изгнание супруги как исключение. Женщина может обратиться за защитой к церкви, в суд. В дохристианские времена муж мог выгнать жену из дома, это воспринималось естественно.
— А кто мешает заменить церковный брак на государственную регистрацию оного брака? — снова подал голос тот же преподаватель. Судя по нахмуренному лицу батюшки, и на взгляд, который он кинул на этого препода, это у них давний спор.
— Разумеется, можно, — кивнул я. — Но венчание — помимо всего прочего, это еще и действо, ритуал. Жених и невеста стоят под венцами, батюшка читает молитву, на них смотрят все окружающие. Все и красиво, и торжественно. Такое запомнится молодым людям на всю жизнь, заставит их серьезнее относиться и к браку, как к таковому, и друг к другу. Можно вообще пойти еще дальше — ввести гражданскую регистрацию новорожденных детей, поручить волостному писарю выдавать свидетельство о смерти, а в уездах и губерниях создать что-то… вроде отделов Записи актов гражданского состояния. Тем самым мы превратим самые важные моменты в жизни человека, его близких в простую бюрократическую процедуру, вроде покупки дома или заключения сделки купли-продажи.
Я бы еще что-то сказал, но батюшка благосклонно прикрыл глаза, а декан факультета махнул рукой:
— Господа, времени у нас мало. Последний вопрос. Нет? Тогда, с вашего разрешения, я его задам — в чем разница между гражданским и частным правом?
О, это я тоже знаю.
— Приведу высказывание Ульпиана — древнеримского философа и юриста: «Публичное право — то право, которое относится к пользе Римского государства, частное — то право, которое относится к пользе отдельных лиц». Отсюда…
— Благодарю вас, — прервал меня Легонин. — Господа, надеюсь, больше вопросов нет? Это прекрасно. Господа, попрошу вас спуститься вниз. Я распорядился, чтобы сюда подали извозчиков. Думаю, четыре коляски нам хватит. — Повернувшись ко мне, бросил: — Пойдемте, Иван Александрович.
Мы прошли по коридору, подошли к дверям кабинета. Легонин, вытащив из кармана ключ, с трудом отрыл непослушный замок и вошел внутрь, кивком показав, чтобы я зашел следом.
— Так, господин Чернавский, — сказал Легонин. — Я вас сердечно поздравляю с успешной сдачей… да что там — с отличной сдачей испытаний. Хотел придержать диплом до завершения вашей служебной деятельности в Московскому суде, но не буду.
Декан юридического факультета полез в стол и вытащил из него бумажную трубочку. Развернув, попросил:
— Посмотрите, все правильно? Ваши данные не перепутали? Возраст, дату какую-нибудь? Вероисповедание, думаю, без ошибки.
Я взял в руки диплом, начал читать.