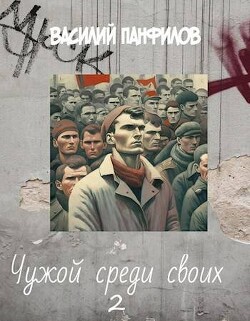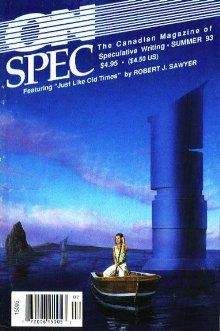Старые недобрые времена (СИ) - Панфилов Василий Сергеевич "Маленький Диванный Тигр"
Ну и понимать надо, что после войны, когда будут награждать героев оной, проскочить не то чтобы просто, но всё ж таки сильно проще, а вот потом… потом сильно не факт!
От этого простого понимания и без того тяжёлый характер унтера портится, и он, паскуда злобная, зверится на подчинённых, пытаясь выслужиться хотя бы за счёт усердия.
Прикусывая трубку, чтобы не кусать губы, Ванька отслеживает разговор…
… но не особо отслеживается.
Вставить, что он вообще-то не просто грамотный, но выученный на камердинера и домашнего учителя, это надо как бы исподволь, невзначай, ни в коем случае не предлагая свои услуги.
Это солдату можно было бы напрямую предложить, а с унтером, ети его в качель, политес соблюдать надо!
С одной стороны — начальство, которое свой характер имеет, и которому претит быть должным нижнему чину, да ещё и какому-то ополченцу.
С другой — собственно ополченец, который хочет на этом поиметь… хотя бы хорошее… нормальное отношение со стороны унтера.
Грань здесь тонка, и все уже всё, кажется, понимают, но Ванька не хочет вовсе уж прогибаться, не имея от этого ни малейшего профита, а Маркел Иваныч, соответственно, хочет ровно наоборот.
А пока…
— Да, погонял бы ты его, Сильвестр, — отхлебнув из кружки, сказал унтер, — а то не солдат, а чёрт те што! Нет уж! Если ты мне вверен, так изволь соответствовать! Я тебя, сукина сына, представлю…
— … носок, носок тяни, сукин сын! — благодушно покрикивает унтер, держа в одной руке кружку с кипятком, а в другой трубку, — Держи ногу, держи, сукин сын…
Замерев с поднятой ногой, Ванька держал, потому что… а куда он, собственно, денется?
Держал, и шагал, и выполнял разного рода экзерсисы с ружьём, притом, для пущей обидности и подчёркивания его, Ванькиного, неполноценного положения, поломанным, из трофейных.
— Вот пусть пока со сломанным и походит, — приказал Маркел Иваныч, — и не жалей его, Сильвестр! Есть коли свободное время, так гоняй его, и смотри, проверять буду! Если что…
Он без лишних слов покачал перед носом дядьки увесистым кулаком, на что тот только вильнул глазами в сторону подопечного, и Ваньке без всяких слов стало понятно, что он попал… и в который уже раз пожалел, что высунулся! Ну какая к чёрту, учёба грамоте, какой политес!
Что уж там он сделал не так… да и сделал ли? Может быть, малограмотный унтер просто озлился от того, что какой-то мальчишка, ополченец, раб, превосходит его хоть в чём-то?
Во рту стало кисло, и попаданец пообещал себе, что станет — как все, потому что… ну его к чёрту!
— … занимался рукоблудием, — согнувшись под епитрахилью, Ванька перечисляет грехи, собрав в кучу все те грехи и грешки, нормальные для молодого парня пубертатного возраста. Онанизм, гневливость…
… впрочем, на онанизме обычно его скороговорка спотыкается, и священник, перебив, начинает выяснять подробности — как, да о чём думал, да…
В общем, попаданец даже думать не хочет, за каким чёртом священнику это вот всё. Но иеромонаха интересует плотское, и, по службе, ненадлежащие мысли в сторону начальства.
Иногда его подмывает выдать святому отцу что-нибудь этакое, в лучшем немецком стиле, но останавливает не столько даже данное самому себе обещание быть как все, сколько опаска за то, что у монаха взыграет плотское, и он (не дай Бог!) затриггерится на Ваньку.
Не факт, что священник захочет перейти от мыслей к телу, но проверять как-то не тянет… да и повышенное внимание от святого отца, оно ему надо?
— Гневился ли на начальство? — святой отец наконец-то перешёл следующему вопросу.
— Гневился, отче… — согласился ополченец, зная, что отрицательному ответу иеромонах не поверит. Но и рассказывать ему настоящее…
… он часто представляет, а иногда и видит во сне, как во время боя пробегает мимо Его Благородия, лежащего со штыком в животе, и как бы не замечая в горячке боя, наступает на живот… с размаху!
Сколько раз он думал о таком…
… бил штыком в спину при атаке, наступал на живот или горло, стрелял, непременно в лицо, валил на землю и бил… бил так, что ненавистная физиономия кровавилась, расползаясь в лоскуты, в пыль, в ничто!
Менялись только декорации да рожи, и иногда это был поручик Левицкий, иногда Маркел Иваныч… а иногда и кто-то из солдат, хотя последнее много реже.
Неизменной была только пульсирующая в голове ненависть, искреннее, истовое, почти молитвенное желание смерти, и… с некоторых пор — смерти со всеми чадами и домочадцами. Сдохните, твари! Все, все… никого не жаль!
… но этого он, разумеется, не рассказывает, памятуя о том, что РПЦ — это казённая структура, встроенная в Государство Российское так, что и не отодрать! И что священники, монахи, дьяки и все прочие — не Отцы Духовные[iv], а скорее тюремные надзиратели в огромном лагере строгого режима, который называется Российская Империя.
Отходили, крестясь, лица у солдат праздничные, просветлённые.
Попаданец знает наверняка из разговоров и оговорок, что к Церкви очень и очень многие относятся далеко не столь восторженно и истово, как принято считать. Воцерковлённость, она в прямом смысле из-под палки, но, тем не менее, и служба, и исповедь, и причастие для большинства всё ж таки очень значимы.
Вера их не столько христианская, сколько крестьянская, так густо порой переплетена с язычеством, что и не различить. А скабрезных, презрительных пословиц и поговорок о духовенстве в народе столько, что нетрудно понять, что он, народ, разделяет собственно духовенство, и Бога.
Но ритуалы, привычные с детства, успокаивают, облегчают тяготу в душе и обещают пусть не скорое, пусть не в этой жизни, но воздаяние за всё то, что он терпит в этой.
— Охо-хо… — со стоном разогнулся Сильвестр Петрович, — грехи наши тяжкие!
Он перекрестился, и, достав из кармана трубку, начал набивать её, а потом прикурил и с наслаждением затянулся, прикрыв глаза.
Ванька, подавив стон, присел, а скорее даже упал на прогретое солнцем ядро от мортиры.
— А ты чевой-то? — удивился дядька, открыв наконец глаза, — вона ружьё!
Уперевшись руками в колени, попаданец с трудом встал, не сразу утвердившись на неверных ногах, и, подойдя к сломанному трофейному ружью, которое он, блажью Его Благородия, таскает за собой повсюду, ухватил его и замер в уставной стойке.
— На пле… чо! — скомандовал Сильвестр Петрович, и ополченец принялся выполнять команды. Чувствуя себя…
… а впрочем, он себя никак не чувствует. Ну то есть физически прескверно, а духовно, душевно — никак. Выгорел.
Работа на Батарее не прекращается ни днём, ни ночью, и какая там охрана труда, какое трудовое законодательство…
А он, Ванька, в те минуты, когда остальные отдыхают, пыхая табаком и травя байки, упражняется в шагистике и прочих, столько же актуальных ополченцу солдатских науках.
— Ать-два… — и он поворачивается то на-але… то на-апра…
Не думая, не рассуждая. Мыслей в голове никаких, есть только непроходящая усталость — такая, что даже есть не хочется, а в сон проваливается, стоит только прилечь. Как в колодец… и ничего потом не помнит, разве только то, что снилась какая-то дрянь, но впрочем, и вокруг такая дрянь, что разницы никакой.
За минувшие две недели он, с детства выученный танцам и фехтованию, научился маршировать и жонглировать ружьём так, что, пожалуй, какой-нибудь строевик, увидев такое, прослезился бы и облобызал ополченца. Но пока — так…
— А-атставить! — и приклад ружья со стуком опускается на землю, а сам Ванька, замерев, смотрит в пространство оловянными, невидящими глазами.
— Ну… — подошедший Маркел Иваныч обошёл его вокруг, — на человека начинает походить! Кхе… так что, Сильвестр, не забывай его гонять, потом спасибо скажет!
Прежде, наверное, в голове попаданца ворохнулось бы хоть что-то, но сейчас — одна звенящая пустота. Ни-че-го…