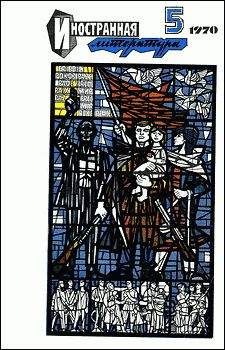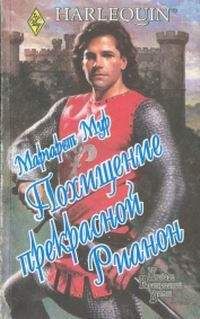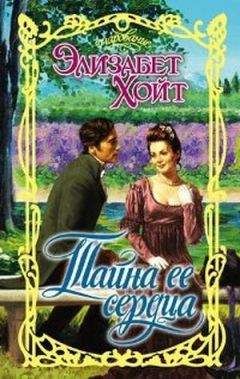Йен Уотсон - Альтернативная история
— Он говорил это до или после того, как ты предложил ему деньги для экспедиции? — сухо спросил Дауд.
— …И теперь ты говоришь, что он проповедовал веру Христову при дворе Великого хана? — Хисдай ибн Эзра заломил руки. — О чем же он думал?
— Вероятно, о том же самом, чем озабочен и сейчас. — Дауд без предупреждения схватил Хисдая за плечи, прожигая его бешеным взглядом. — Отец, брось стонать, слушай и мотай себе на ус! Может, твой генуэзский друг и не вполне вменяем, но он самого лукавого заткнет за пояс в умении извлекать выгоду в любых обстоятельствах вопреки принципам! Из трех твоих кораблей Христофор Колумб вернулся на двух уцелевших. «Ципору» он посадил на мель у берегов Катая еще до нашего отплытия в обратный путь. «Бат-Шеву» мы в целости и сохранности доставили в порт в Танжере, откуда… э… груз с нее сейчас переправляется сюда следом за мной при помощи людей, к которым я обратился по нашим семейным связям в Мамлака-аль-Магрибии. А вот что касается третьего…
— Груз? — прервал его Хисдай, в чьих глазах вспыхнул живой профессиональный интерес бывалого торговца.
— Слушай же, я сказал! — Дауд чуть ли не встряхнул отца что было силы. — Что до третьего корабля — «Хадасса-ха-Малки» — то, как только на горизонте показался Танжер, твой дражайший адмирал приказал ему взять курс на север. Да не смотри на меня так! На север, по направлению к портам католических королей, — с кораблем, полным остальных сокровищ, подаренных Великим ханом, по сравнению с которыми то, что ты видишь на ковре, — ничто. И прямо сейчас, пока мы тут с тобой беседуем, он направляется в полевой лагерь католиков под Санта-Фе, чтобы предстать там перед Фердинандом и Изабеллой. Разве не видишь? Теперь у него есть такой козырь, который ни за что не оставит царственных особ равнодушными. Жалкое золото гранадских евреев не смогло помочь нам купить ни спасительного пристанища там, куда не доберутся кастильские войска, ни безопасности для последнего города, где наши мавританские правители позволили нам исповедовать нашу веру с миром. Несметное же богатство Катая даст возможность твоему генуэзскому любимцу купить то, чего он всегда жаждал, — благородный титул, королевскую милость и почести от наших врагов! Если кто подлец, подлецом и останется, — с презрением добавил Дауд.
— Тогда нам нужно его остановить! — Хисдай сжал руки сына хваткой, которая оказалась ничуть не слабее, чем у молодого человека.
— Ты думаешь, мы не пытались этого сделать, о мой отец? Слишком поздно! Пока мы поняли, что он замыслил, он выиграл слишком много времени и после крушения «Ципоры» позаботился о том, чтобы собрать на «Хадасса-ха-Малке» команду из своих сторонников.
— Но это невозможно! — Хисдай покачал головой с выражением внезапно накатившей усталости. — На кораблях были только наши люди. Ни одного человека, кто бы не знал о великой цели этого похода. Как они могли?..
— Для некоторых обещание поделиться большей частью драгоценного груза здесь и сейчас куда заманчивее, нежели мечты о далекой земле обетованной, — сказал Дауд, не выказывая при этом ни гордости, ни стыда за своих соплеменников.
Хисдай обмяк в руках сына, державших его:
— Даже если и так, как я могу их винить? Осада длится уже полтора года. Гранада — последнее, что осталось у нашего султана. — Нетвердо ступая, он отвернулся от Дауда и направился к окну. — На улицах его теперь называют не Абу Абдаллах Мухаммед, а Эль-Зогойби.[29] Этот несчастный падет, как дьявол в преисподнюю, — и мы вслед за ним. Взятие Гранады неприятелем станет гибелью последнего надежного пристанища для нашего народа. В грядущие мрачные времена той твердыней, на которую можно уповать, многие сочтут не Тору, а золото.
Под бременем отчаяния Хисдай настолько ушел в свои тяжкие думы, что даже не заметил, как за ним двинулась тень его сына, а в комнату скользнула вторая тень, за ней — третья, потом четвертая. Он только краем уха услышал слова Дауда: «О мой отец, ты поступаешь мудро, храня веру».
— Веру? — Смех Хисдая прозвучал глухо и хрипло. Он продолжал смотреть вверх, на ясное небо Гранады. — Что теперь толку в вере? Я растратил наше богатство на то, чтобы помочь исполнить задуманное вероотступнику! Нам нужны солдаты, Дауд.
— К слову сказать, я слышал, что католические короли называют сию битву за Гранаду новым Крестовым походом.
— Не много же ты знаешь о Крестовых походах, сын мой. Если бы Гранада была нищей деревушкой из глиняных лачуг, католикам не было бы дела до нашей веры, молись мы хоть птицам летучим, хоть гадам ползучим. Но мы богаты, и это значит…
— Отец, — предупредил Дауд. — Отец, я бы тебе не советовал смеяться над гадами и птицами.
— Я и не думаю смеяться. Кто я такой, чтобы высмеивать божьи творения? — Хисдай тяжело оперся об оконный откос. — Я всего лишь несчастный, который имел неосторожность поверить в мечты. А мечты зыбки. Единственное, в чем можно быть уверенным, — это смерть.
Затем Хисдай ибн Эзра отвернулся от окна и в этот самый миг узрел картину, которая не оставила сомнений в том, что безумие тоже очень вероятная штука.
— Боже милостивый! — пробормотал он и попятился назад, отчего чуть было не вывалился из окна.
Дауд подскочил к Хисдаю и схватил его за руку:
— Осторожнее, отец мой. Невежливо так внезапно сбегать от верящих в тебя людей.
— Верящих? — дрожащим голосом промолвил Хисдай.
— Ну да, так он утверждает. Несмотря на то что формально он — жрец Уицилопочтли, он поведал мне, что его сердце… — Дауд почему-то с трудом сглотнул, — его сердце принадлежит Кецалькоатлю, Пернатому Змею… Гм… Ты не против, если он прикоснется к твоей бороде? Это для него было бы огромной честью, и он поклялся нам…
У Хисдая закружилась голова от той тарабарщины, что нес Дауд. Он внезапно оказался нос к носу с человеком, не похожим ни на одного из тех, кого ему когда-либо приходилось встречать, даже во времена его самых невероятных странствий по торговым делам. Прямые черные волосы, кожа цвета темной бронзы, отмеченная татуировками и шрамами, широкий нос, изукрашенный серьгами из золота и нефрита, — это невесть откуда возникшее создание разглядывало его с выражением, недосягаемым для понимания.
— Он хочет… прикоснуться к моей бороде? — Взгляд Хисдая был прикован к невероятному гостю.
И усыпанные драгоценными камнями золоченые сандалии на ногах странного существа, и изысканная пелерина из перьев на его плечах, и венчающий все это пышно оперенный головной убор красноречиво давали понять: даже Махмуд не принял бы этого посетителя, равно как и двух его величественных собратьев, за кастильца.
Как будто в подтверждение этих мыслей Махмуд избрал именно сей момент, чтобы появиться с угощением — блюдом, которое отдавало дань как экономности повара, так и его изобретательности. «Не забыть сказать я-сиди Хисдаю, что мясо только для кастильца, а то повар мне голову оторвет. Господин питает — питал — такую симпатию к этому пирату», — бормотал он про себя, будучи настолько погружен в несение подноса и удержание равновесия, что не сразу заметил, что народу в комнате прибавилось.
Обоснованное с точки зрения бережливости предупреждение вдруг вылетело из головы Махмуда, как только он поднял глаза от своей ноши и увидел новоприбывших гостей своего господина. Один облачен в нечто, напоминавшее шкуру леопарда, чья клыкастая голова служила шлемом, а другой закован в украшенные перьями доспехи и на голове красовался огромный орлиный клюв, отбрасывавший тень на жгучие глаза. Оба были до зубов вооружены диковинными, но оттого ничуть не менее смертоносными на вид орудиями. Махмуд завопил, уронил кус-кус с собачатиной и бросился наутек. Воин в орлином шлеме метнул нечто похожее на примитивный топорик, пригвоздив рукав беглеца к дверному косяку. Прежде чем слуга, извиваясь, смог высвободиться, два чудных воина его удержали и бросили к ногам Хисдая, словно предоставляя старику решить дальнейшую судьбу Махмуда.
— О мой отец, — начал вкрадчивую речь Дауд, — не окажешь ли ты честь поприветствовать возлюбленного племянника Великого хана Ауицотля — Владыку Монтесуму?
Без единого слова или намека на свои намерения трое бронзовокожих чужаков рухнули на ковер рядом с Махмудом в позах, выражавших смиреннейшее подчинение. Хисдай, открывая и закрывая рот, облизывая пересохшие губы и покусывая концы своих белоснежных усов — словом, предпринимая все возможные попытки заговорить, — не мог, однако, вымолвить ни единого слова. Он выглядел так, будто не знал — протестовать, чтобы эти люди у его ног поднялись с колен, требовать объяснения происходящего или посулить увеличение жалованья потерпевшему надругательство Махмуду. Либо просто ринуться к окну, спрыгнуть вниз, на груду подушек за навесом, и сбежать. Конечно, имелся шанс угодить мимо навеса, но в тот момент это казалось не такой уж плохой альтернативой нахлынувшему на него помешательству. Собрав последние остатки мыслей, он вопросительно посмотрел в лицо сына и в конце концов сумел выдавить из себя хриплое, но красноречивое: