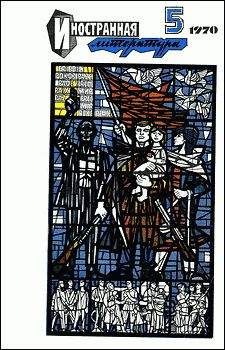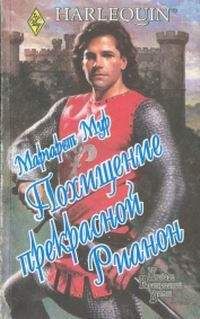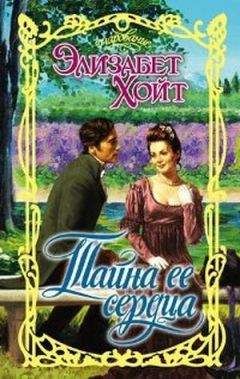Йен Уотсон - Альтернативная история
— Что значат твои слова, сын мой? — Хисдай схватил Дауда за плечи. — Ты хочешь сказать, что ваше плавание потерпело неудачу? Что та земля обетованная, на которую мы уповаем, прибежище для нашего народа после того, как Гранада будет уничтожена этими проклятыми католическими королями, все это — очередной бред умалишенного адмирала?
Потрепанные усы Дауда перекосились в оскорбленной гримасе.
— О мой отец, уж если ты называешь адмирала умалишенным, тогда мне придется поверить в утверждения матери. Иначе как объяснить то, что ты поручил меня покровительству безумца?
Хисдай нетерпеливо отмахнулся от язвительного замечания сына.
— Твоя мать, первейшая из моих жен, — добродетельнейшая женщина, и, даже несмотря на ее низменную страсть к сплетням, ей все равно цены нет. Ты мой наследник, Дауд! Разве доверил бы я бесценный алмаз сумасшедшему? Но если алмаз этот еще недостаточно хорошо обработан, я с великим тщанием выбирал бы того ювелира, кому я мог бы передать свою драгоценность, дабы ее огранить, отполировать и поместить в достойную оправу, чтобы искусная рука мастера превратила бы мой бриллиант в само совершенство, как он того и заслуживает.
— Другими словами, ты послал меня на край света рисковать головой ради моего же блага, — заключил Дауд.
— И для того, чтобы избавить тебя от египетской танцовщицы, на которую твой никчемный товарищ Барак спустил уже почти все свое состояние, — еле слышно пробормотал Хисдай.
Дауд это расслышал и едва не подавился от смеха:
— Не бойся, отец мой! При дворе Великого хана подобных искусительниц мы не видали. Как доподлинно известно, всемогущий властитель Катая[28] окружает себя только прекраснейшими дочерьми Израиля, прелестнейшими цветами Иудеи, нетронутыми девственницами Иерусалима в изгнании…
— Неужели старик, мечтающий, чтобы его сын женился на доброй еврейской девушке, хочет слишком много? — буркнул Хисдай.
— Ах, отец, тебе все равно не угодить — разве что только жениться на чистокровной принцессе!
— А разве лелеять честолюбивые мечты плохо? — настойчиво вопрошал Хисдай.
— Нет, вовсе нет. — Дауд с чувством посмотрел на отца. — Выходит, всему виной была моя страсть к запретным удовольствиям и ты счел ее тем изъяном, который должен устранить твой генуэзский ювелир? А я-то думал, что мечта найти новую землю обетованную для нашего народа заставила тебя вложить мое наследство в те три утлые посудины, что ты ему купил.
Хисдай ибн Эзра не был настроен шутить:
— Дауд, я вижу, что, по меньшей мере одна из моих надежд оказалась напрасной. Ты вернулся таким же насмешником, каким уезжал.
— О нет, отец мой. — Дауд сбросил маску остряка. — Поверь, я вернулся в твой дом другим человеком. Если я сейчас слегка и подтруниваю над тобой, то лишь для того, чтобы мое сердце не сжималось под тяжестью того, что мне придется тебе поведать.
В глазах старого еврея явственно отразились страх и трепет.
— Что же это за новости? Великий хан отклонил наше прошение и отверг мои дары? Когда-то в Катае было много евреев, почтенных и уважаемых, получивших соизволение жить там в мире и следовать обычаям наших предков. Напомнил ли ты Великому хану о том богатстве, которое мы принесли его стране?
Дауд кивнул:
— Я попытался. Во всяком случае, это сделал наш толмач Моше ибн Ахия, необыкновенно образованный человек. Он был потрясен, как никто другой, узнав, что Великий хан не знает ни иврита, ни арабского, ни арамейского, ни кастильского, ни греческого, ни латыни.
— Но вы ведь сумели найти общий язык? Знаками? Подарками? В свое время, когда я сопровождал караваны, я всегда находил способы разъяснить свои намерения…
— Мы тоже сумели это сделать, — ответил Дауд. — Те дары, которые ты ему послал, красноречиво говорили сами за себя, да еще как забавно! Они его рассмешили.
— Рассмешили?! Шедевры ювелирного искусства? Те драгоценнейшие из драгоценных камней, которые я сумел собрать у представителей нашего народа здесь, в Аль-Андалусе, в Кастилии, Франции, Италии и даже за морем, в Мамлака-аль-Магрибии! — Хисдай нервно мерил комнату шагами. — Когда весть об этом человеке, Колумбе, впервые достигла моих ушей, я уверовал, что самые безрассудные мои молитвы были услышаны. Что земля круглая, доказали еще древние, это знает каждый недоучка, и в этом смысле генуэзец со своими фантазиями ничего нового не открыл. Но применить это знание, чтобы найти западный торговый путь! — Он с размаху припечатал кулаком свою ладонь. — Вот была желанная награда, о которой я мечтал! Возможность для нас, всех евреев, наконец спокойно достичь пристанища на Востоке и жить там, не опасаясь периодических приступов религиозного рвения со стороны наших соседей-католиков. Очутившись там, мы бы благоденствовали, как никогда прежде.
— Ты тогда так и говорил, отец. — Дауд по-прежнему был угрюм.
— Как я говорил, так и должно было произойти! Восток всегда благоволил к нам, и открытие новых торговых маршрутов принесло бы нам процветание. О Дауд, знал бы ты, как пылко я возблагодарил Бога, когда эти недальновидные католические короли отвергли план Колумба и отправили его восвояси! Ты даже представить себе не можешь всего того, что мне грезилось! Я приложил немало усилий, чтобы в кратчайший срок доставить его сюда и иметь возможность оплатить его замысел. А вместе с ним и наше будущее!
— Я прекрасно это помню, так как далеко не все время проводил в грезах о танцовщице Барака.
Совсем потеряв голову, Хисдай не обращал внимания на колкости Дауда:
— Сын мой, сокровища, которые я послал с тобой, были переданы Великому хану от лица евреев в качестве платы за позволение найти прибежище в далеких восточных землях, как только тщеславный генуэзец докажет, что существует безопасный морской путь в те края. И ты говоришь, что Великий хан рассмеялся?
Не говоря ни слова, Дауд сунул руку в большой кожаный кошель, висевший у него на боку, и извлек оттуда большую горсть сверкающего чистого золота и бесценных камней. Восхитительные цепи и подвески, серьги и ожерелья, браслеты для рук и ног, немыслимые украшения для разных частей тела, которые были за гранью воображения старика. Все это посыпалось на сине-зеленый ковер.
Потрясенный Хисдай растерянно взирал на Дауда, который так же молча запустил руку в кошель и за первой горстью сокровищ вынул вторую, затем третью, четвертую, каждый раз кидая драгоценности на пол с равнодушием расточительного богача, бросающего птицам хлебные крошки.
— Теперь ты видишь, почему он рассмеялся? Потому что рядом с сокровищницей Великого хана наши дары выглядели не серьезнее, чем самодельная глиняная фигурка, которую мог бы слепить ему в подарок кто-нибудь из детей: милая безделушка, но не более. То, что ты созерцаешь, — только моя доля от первого подарка, который Великий хан преподнес нам. Первого, заметь. Это была награда.
— Награда? — Хисдай с трудом смог отвести взгляд от горы драгоценностей, столь беспечно раскиданных у его ног. — За что?
— За то, что мы убедили адмирала замолкнуть насчет Христа, — пожал плечами Дауд. — Его речи сбивали с толку жрецов Великого хана, а им в тот день еще предстояло много людей… готовить. — Его охватило неприятное воспоминание, на лбу мелким бисером выступил пот.
— Христа? — отозвался Хисдай, не заметив подавленного состояния сына. — Но я считал, что он давно с этим покончил.
— Отец мой, человек не может покончить со своей верой, как с дурной привычкой, — резко бросил Дауд.
— Ну вот еще! Адмирал никогда не был истинным христианином. Вера оставалась для него удобным прикрытием, обстоятельством, которое, по его мнению, могло помочь ему сгладить путь к успеху. В частности, когда он пожелал заручиться монаршей поддержкой, задумав неслыханный поход, — сказал Хисдай, исполненный такой непоколебимой уверенности в своих словах, что обсуждать сей вопрос он не видел никакого смысла.
— Возможно, ты и прав, — признал Дауд. — За все время нашего пребывания на борту «Ципоры» я частенько подумывал о том, что хотя адмирал и молился Богу, но служил только самому себе.
— Разумеется, я прав! — огрызнулся Хисдай. — Христианином он был лишь для отвода глаз, а еще чтобы обратить на себя внимание сильных мира сего. Но ему это не слишком помогло! Перед его носом захлопнулось столько королевских ворот, что на лбу отпечатались гербы Кастилии, Леона и Арагона! — Он снова заходил по комнате, пиная по сторонам золотые побрякушки. — Ко мне он явился после долгого и бесплодного ожидания поддержки от Фердинанда и Изабеллы. Передо мной ему не требовалось изображать истового католика. Он сообщил мне, что его собственные прародители из Генуи были нашими единоверцами, изгнанными из христианских княжеств Испании, — можно подумать, я сам твердо не убедился в этом заранее, прежде чем посылать за ним! Мне не пришлось объяснять ему, какова будет наша судьба, если Гранада падет. Ах, мой сын, слышал бы ты, с какой тоской и страстью он говорил о вере своих предков!