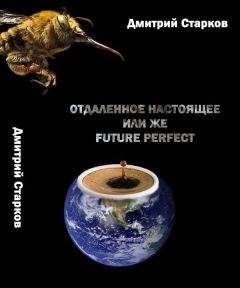Дмитрий Володихин - Доброволец
Я оглядываюсь. Какая благодать! Еще минуту назад я не видел ее, не мог увидеть. Весь белый свет укрылся ровными облаками снега. Округлыми, приятными на вид, словно ухоженный сибирский кот прежней нашей хозяйки Патрикеевны. Снег – я в первый раз обратил на это внимание – отнюдь не был белым. Нет, не сахар, и не ношеный саван, весь в грязных крапинках, как бывает в наших мегаполисах, да и не пласт сала, повернутый розовой любовинкой к заре. Нет. Если разбавить молоко водой, оно получится чуть-чуть голубоватым. Так и выглядели трехвершковые сугробы по обе стороны дороги. Эту водянисто-молочную голубизну разбавлял прерывистый позумент солнечных поцелуев, процеженных сквозь сито еловых лап. Яркое, неноябрьское солнце впервые за две недели зажгло все свечки перед зеркалом.
Художники едут за тридевять земель, отыскивая такие места в такую погоду. А тут чудесная страна досталась нам, толпе измученных людей в обтрепанных шинелях. Мы идем сквозь роскошь и великолепие, не поднимая век. И мы не думаем о неизбежной смерти только по одной причине: способность думать за последние дни атрофировалась. На ее место пришло полное отупение. В наших головах вяло ворочаются самые простые желания: «Есть… спать… не упасть… не отстать… не промахнуться…» Необъятная тишина, только скрип уминаемого снега, да покашливание, да редкое звяканье металлической мелочи.
Я отчетливо понял: нам всем предстоит умереть. Возможно, гибель настигнет нас через неделю, через день, или даже через пару часов; а возможно, нам не дадут выйти из этого леса, дорубят остатки полка, кровью замарав невестину фату равнины.
Мысль о близкой смерти испугала меня. Как же так? Почему я столь равнодушен к собственной судьбе? Пристрелят в случайном лесу или полоснут случайной шашкой по голове, убьют без пользы и толку в случайной стычке! А я ведь ничего не сделал. Я ровным счетом ничегошеньки не сделал. Да я проворонил свою жизнь!
Может, уйти мне? Уйти прямо сейчас, прыгнуть с дороги на снег, завертеться бесом, задрыгаться, ей-ей, от изумления они не успеют принять меня за сумасшедшего, не догадаются скрутить. Ведь не успеют? А там– тепло, еды сколько угодно, там можно спать, сколько хочешь… Ведь я же помню, у меня дома еда не переводилась! Но стыдно ведь, стыдно, нехорошо – вот так-то, да еще на миру, при всем честном народе. И сил, наверное, не хватит. Определенно, не хватит сил. Я бы мог, я, скорее всего, так и сделаю чуть погодя, но сейчас ничего не получится: упаду и не поднимусь, засну прямо в сугробе, а потом подохну от мороза, ведь тащить меня некому, сплошные полумертвецы кругом… Нет, я уж лучше потом, я по…
Впереди зазвучали голоса. Сиплый бас батальонного командира и чье-то недовольное бурчание.
– …хриплю… не получится, ваше…
– …надо, голубчик…
– …итак едва живы…
И потом очень громко:
– Ефрейтор Володинцев! Я вам приказываю!
Пауза. Спящие продрали очи, задубевшие подняли взгляды от носков сапог.
– Что за балаган? Что за балаган, воины? Кому-то хочется потехи… – заворчал Вайскопф.
Вдруг над поникшими взводами зазвучала песня. Первый куплет Володинцев вывел надтреснутым, нечистым голосом:
Марш вперед! Труба зовет,
Корниловцы лихие!
Славный полк не победит
Советская Россия…
Последние строчки ему подпевал батальонный. И, следовательно, все мы тоже обязаны были запеть…
Володинцев кашлянул раз, другой и продолжил ровнее:
Ты не плачь, не горюй,
Моя дорогая,
Коль убьют, так не жалей,
Знать судьба такая…
Полк нестройно затянул. Я пел вместе со всеми. Сначала равнодушно, лишь бы извергнуть положенные слова, но походная песня это такая штука, которая, хочешь – не хочешь, обязательно превратит сумму одиночек в сплоченное единство, и у нас пошлодело, пошло, пошло… Голосовые связки сами собой, ничуть не согласуясь с твоими желаниями, норовят поймать мотив, включить звуки твоей безголосицы в общий хор. Мы не хотели петь. Я не хотел петь. Но под конец песни у нас появился кураж.
– Давай, Володинцев, давай, аль обезголосел?
И ефрейтор начал, сбился, испугавшись, что поет совсем не то, но мы дружно подхватили, нам было наплевать: не то, и Господь с ним! Тем злее и куражливее вышло:
С Иртыша, Кубани, Дона,
С Волги-матушки реки,
Развернув свои знамена,
На Москву идут полки.
Впереди на правом фланге
Красных шапок виден ряд:
То корниловцы лихие,
То корниловский отряд…
Нет, они нас не возьмут. Сами полягут тут, в безвестном лесу, в сугробах, сами померзнут, но не возьмут нас. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра! Никогда.
От всего полка осталось человек восемьдесят. Во всяком случае, я не видел большего. Где прочие полки и дивизии, где артиллерия, где командование, ведает один Бог. В нашем взводе – девять штыков. И это самый большой взвод в полку, больше некоторых рот. Мы второй день ничего не ели. У нас почти нет патронов. Мы шагаем вперед, не очень понимая, куда приведет нас дорога, мы шагаем вперед, поскольку сзади у нас армия «товарищей», и она гонит нас к гибели. Время от времени разъезды красных вцепляются в нас, и тогда отощавший, израненный медведь поворачивается, чтобы из последних сил издать рык, махнуть лапой, вспороть живот очередной нетерпеливой шавке…
К ляду! 3-й ударный Корниловский жив. У нас есть знамя, мы можем идти, петь, и стрелять по врагу.
3-й ударный Корниловский все еще жив.
Часть 3
Дон
Декабрь 1919 года, ночевка среди голой степи
Алферьев, недавно произведенный в капитаны, принял под команду всю роту. Предыдущего ротного убило осколком от шрапнельного разрыва. Пехотные командиры обыкновенно сменяли один другого раз в две-три недели. Мы тяжело, плохо отступали. Каждый день несли потери от холода, голода и тифа, а пополнения приходили редко. В боях с красными выкашивало в первую очередь батальонных, ротных и взводных начальников.
После повышения Алферьева командиром взвода стал Вайскопф.
Свежий ротный объявил нам об этом, когда мы остановились на ночлег среди голой степи. Нытье ветра почти заглушало его голос. Ударил бы мороз, и до утра не дотянула бы и половина.
Славен Господь! Не попустил.
Декабрь 1919 года, донская степь; какое было число, я не помню, да это и не важно
…Время за полночь, метет поземка, щеки онемели, но вот, слава Богу, приближаются огни, огни… На краю станицы несколько человек развели костерок. У двоих – островерхие шапки, их еще называют богатырками.
…из памяти с трудом выплыло слово «буденовка». Когда-то, где-то я знал, что богатырки потом станут называть «буденовками»…
Стало быть, красные. Человек десять или двенадцать. Ни у кого из них не было винтовок. Сидели мирно, протягивали озябшие ладони к огню. Кто-то устроился на груде камней, покрытой шинелями, снятыми с трупов, а кто-то лежал прямо в снегу. Рядом валялись остатки трех разбитых артиллерийских ящиков, бывшие красноармейцы понемногу отдирали от них деревяшки и бросали в огонь.
Трое наших отправились к костерку, собираясь забрать у «товарищей» сапоги. Алферьев остановил их и ледяным голосом сказал:
– Только с мертвых. Проверю. Я вижу отсюда, у кого там что. Если с живых снимите, натяну сволочей.
Мертвые? Я пригляделся. И впрямь, те, кто лежал на снежной перине, либо давно стали трупами, либо доживали последние часы. А потом и те, кто еще бодр, кто поддерживает костерок, лишатся сил от голода и холода, тут-то старуха с косой наведается за свежими рекрутами…
Почему они здесь? Почему сидит этот десяток рядом с потоком добровольческих войск, и никто их не трогает? Наверное, в плен красноармейцев никто не желает брать: своих кормить нечем, да и возиться с простыми солдатами резону мало – какой с них прок? Отобрали винтовки, патроны, коней, деньги, харчи и гуляйте, товарищи! Вот если бы они представляли ценность для штаба… Начальства, решающего такие дела с помощью расстрельной команды, как раз сегодня и как раз в этом месте не обреталось. Разойтись по домам – похристарадничать – красные боялись. Не ровен час, сердитые станичники вместо милостыни застрелят без лишних предисловий. У добровольцев хлеба просить еще того опаснее. Уйти в чистое поле поискать своих – верная смерть. Разбили тут красный эскадрон или, может быть, пару эскадронов, а то и просто ссадили разъезд, выполнявший разведывательную службу. В любом случае, до главных сил большевиков отсюда очень далеко, пеший ходок замерзнет на полпути, и помину не останется. Может быть, им стоило предпринять хоть что-нибудь, но они сидели, кормили жадное пламя и тупо ждали смерти. Кончатся дрова, тогда и жизнь солдатская подойдет к последнему сроку. Я их понимал. Нас война заездила не меньше того. Мы все тут вроде еловых поленьев: здравое соображение просыпается раз в неделю, а в остальное время мы просто реагируем на элементарные задачки, которые ставит сама жизнь – надо идти, надо стрелять, надо просушить одежду, надо зашить дыру в шинели…
![Пол Андерсон - Патруль времени [сборник]](/uploads/posts/books/116954/116954.jpg)