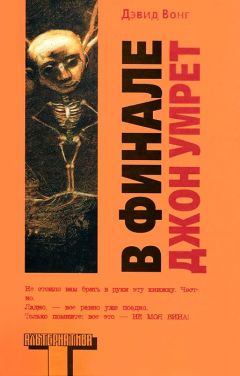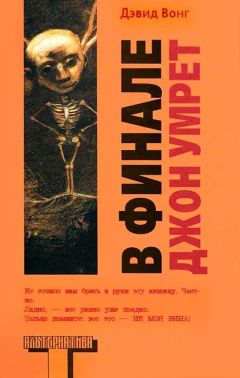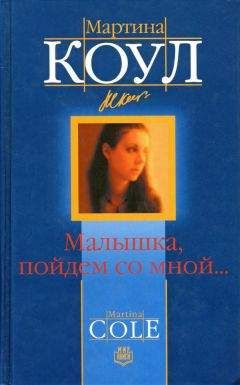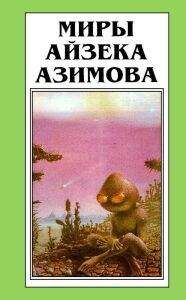Джон Дэвид Калифорния - Вечером во ржи: 60 лет спустя
Естественно, я доволен, но в то же время озадачен. Газеты как в рот воды набрали. Разъезды, встречи – я понимаю, да, такое возможно, но это – это неслыханно. Чтобы литературный персонаж расхворался? Это же абсурд. Но я на эту тему распинаться не собираюсь, увольте. Он сейчас совсем недалеко, и будь я более впечатлительным, мне бы показалось, что у меня слегка засосало под ложечкой. Но я отнесу это на счет несварения желудка.
Я опять на плоту, и теперь со мной моя сестренка Фиби. Сидит рядом, но смотрит в другую сторону. Что-то мне подсказывает, что не нужно ее сейчас тревожить. Ветром принесло туман, но к плоту он не подступает. Завис на краю мрака. Собираюсь ее окликнуть – может, она не заметила, что я тут лежу, но разум меня останавливает. Более того, он превращается в луч лазера, который пронизывает все вещи в пределах моей видимости. Впервые я вижу все вокруг с предельной ясностью.
Это какой-то чулан, где аккуратно составлены жестянки и коробки; у всего свое место. В этом чулане мне даже не приходится рыться на полках. Просто читаю наклейки – и отыскиваю нужное.
Не уходи, кричу я, но слишком поздно. Фиби уже в воде и медленно дрейфует прочь от плота.
Это закуток абсолютной честности, закуток, где в первом ряду стоят жестянки, про которые ты даже не знал, что они у тебя есть, даже не догадывался об их существовании. Жестянки, задвинутые когда-то в задний ряд, тоже здесь. Прямо как результаты бейсбольной команды «Нью-Йорк янкиз». Первая игра, вторая, третья – все по порядку. Фиби уплывает вдаль; пока еще я мог бы ее догнать, но вскоре такой возможности не будет. Она, между прочим, ни разу не обернулась. Ее длинные седые волосы в первую минуту стелются по воде, но вскоре намокают и тонут. А меня не покидает чувство, что тревожить ее нельзя. Заглядываю в нишу, что примерно на уровне моего сердца, и читаю наклейки. Вдали звучит труба – одинокий, глуховатый стон.
Туман сгущается и накрывает Фиби; последнее, что я вижу, – это ее волосы, сбившиеся вокруг головы, как водоросли.
Дверь чулана вдруг захлопывается, и меня затягивает куда-то вглубь, в черную дыру. В самую черную и самую глубокую. Мрак, чернее сырой нефти, застит мне глаза и уши, давит сверху. Глаза у меня, кажется, открыты; проверяю ощупью, но не вижу ни зги. Вижу только глубочайший мрак и чувствую, как пальцы давят на глазные яблоки.
На улице светло. Это первое, что я замечаю, проснувшись. Странно, честное слово: лежу на спине, открываю глаза – и бамс, вижу, что на улице светло. Во рту так сухо, что не могу сглотнуть; все слиплось. Я не двигаюсь, даже не порываюсь. Ощущение такое, будто я грохнулся на землю с большой высоты и теперь не знаю, смогу ли ходить и не разбил ли меня паралич. Медленно шевелю пальцами, но это и все.
Чем-то нынешнее утро необычно, определенно, что-то в нем есть особое. В гостиничном номере царит божественная неподвижность, какая наступает после битвы и длится совсем недолго, но сейчас как раз такой момент. Я исторгнут из чрева кита. Я выкарабкался.
Светоносный шар исчез со стены, но на столе по-прежнему горит лампа. Я чувствую, что подошел вплотную к чему-то важному, так близко, что могу выглянуть за врата, но я еще не там. Кашель почти прошел. Сделав глубокий вдох, я только в самом конце поперхнулся. Это мне померещилось или действительно всю ночь кто-то яростно стучал на пишущей машинке? Еще раз делаю глубокий вдох и сажусь. Спускаю ноги на ворс ковра, но небеса не разверзлись, только во рту пересохло еще больше. Мысли почти полностью улетучились; по крайней мере, сейчас у меня в голове всеобщая неподвижность. Пробую пошевелить ногами и осторожно встаю. Голова не кружится. Осторожно делаю шаг, другой – получается. Даже неплохо. Мне и самому сейчас хорошо. Ничто не препятствует токам моего тела. Границы стерты, стены пали. Образовалось единое открытое пространство.
Иду в душ; ощущение ковра под ногами – это просто фантастика. Щекочет и одновременно почесывает. Оглядываюсь на свою постель и вижу полный бардак. Простыни сползли, обнажив матрас, одеяло смято и свернуто в тугой кокон. Это поле битвы; оно так близко, что можно протянуть руку и потрогать. Надо бы найти выход. Я ведь знаю: снаружи меня кое-что ждет.
Поворачиваю переключатель – и горячие струи смывают последние следы лихорадки. Меня обволакивают клубы пара, я закрываю глаза и не сопротивляюсь, когда волосы прилипают ко лбу. Когда ко мне внезапно возвращаются мысли, время каменеет. Океан, водоросли, мрак. Переключатель повернут до упора, но спине все равно холодно. У меня много дел, надо еще успеть в разные места.
Вот ведь хрен моржовый! Нет чтоб лечь и помереть. Прошу его об одном простом одолжении, о единственно верном поступке – убраться назад, в перо, из-под которого он вышел. А он что? У него, видите ли, незапланированная лихорадка, он чуть концы не отдал, но потом оклемался.
Времени у него было – вагон, в эти пять дней уместилась целая жизнь. Но мне-то зачем так париться? По-моему, чем больше я напрягаюсь, тем коварней какая-то сила мне мешает. Порой возникает такое ощущение, что мне нужно бросить вызов этому городу, потому как этот город его поддерживает и защищает. Чего-то я, видимо, не постиг в этом мире. Только не смешите меня: не говорите, что я не постиг Бога; я и так смеюсь до колик. Его Бог – это я. Другого Бога для него нет. Но есть что-то другое, наверняка есть, хотя это и не Бог; что-то противостоит и мне, и моим усилиям. Вообще говоря, я его не виню; что он понимает? Он – марионетка на ниточках. Но этот фарс может длиться вечно, и я не доживу до его окончания. Надо брать дело в свои руки. Другого выхода нет. Свой мир, каков бы он ни был, ты должен творить сам. Иначе и быть не может. Я – кот; буду просто-напросто ждать, когда мышь угодит мне в лапы.
19
В дверь стучат, а я в одних трусах; дверь тут же распахивается. Ко мне в номер пятится задом приземистая, крепко сбитая дамочка с тугой кичкой черных волос на затылке; она везет за собой тележку с полотенцами. Дверь хлопает, я затихарился и не шевелюсь, а она оборачивается и, увидев меня, вздрагивает. Заслоняет одной ладонью глаза и поспешно отворачивается.
Ой, простите, сэр. Они сказать – вы съехал. Уже после двенадцать.
У меня ответа нет. Откуда мне было знать? Я даже не уверен, какой сегодня день. Поднимаю брюки, которые валяются на полу в куче вещей, и начинаю одеваться.
Я после, говорит она, идя к двери, а сама все так же держит ладонь щитком.
Надо поторопиться – не продолжать же разговор без штанов, но я запутываюсь в штанине и вынужден припрыгивать на одной ноге, чтобы исправить положение; хорошо еще, что не брякнулся на пол, к чертям собачьим.
Нет-нет, говорю ей, прошу вас, не уходите. Я как раз собирался освободить номер.
Горничная стоит ко мне спиной. Сзади она похожа на плод авокадо, такая же округлая и темная, но ей даже идет. По моим прикидкам, перевалила за шестой десяток.
Я тут приболел, говорю. Но уже иду на поправку.
Благополучно натянул штаны, застегиваю рубашку – и тут горничная впервые поворачивается ко мне лицом. Разглядывает мои штаны, потом рубашку и – в последнюю очередь – физиономию.
Вы вернуться? – спрашивает.
И как я должен это понимать? На всякий случай повторяю:
Не уходите, прошу вас. No problemo.
Она пожимает плечами, везет тележку к ванной и приступает к уборке. Я полностью одет, но перед уходом ненадолго задерживаюсь и смотрю, как она работает. Быстро, сноровисто. Выходит из ванной комнаты и буквально на автомате принимается наводить порядок в номере. Движется заданным курсом сквозь этот бардак, а за ней, как по мановению волшебной палочки, остается чистота и порядок. Дойдя до письменного стола, выдергивает из розетки шнур настольной лампы, и я понимаю, что здесь меня больше не ждут. Я – клок пыли, который нужно вымести, чтобы расчистить дорогу новым веяньям; знаю, что сюда я никогда не вернусь. Просто знаю – и все тут. Напоследок поднимаю с пола свою шапку, которая валялась у входа, оборачиваюсь и кивком прощаюсь с горничной.
Спасибо вам, говорю я ей.
Однако же недалеко я ушел. На полпути к лифту слышу, как она кричит из номера.
Мистер, обождите!
Вылетает из дверей, как будто у нее петарда в заднице, но тут же умеряет прыть, завидев меня в коридоре. Запыхалась, останавливается через слово, чтобы набрать воздуху.
Уф, мистер, уф. Вот, забыли. Уф, и впечатывает что-то мне в грудь: не сразу соображаю, что это блокнот. Блокнот для записей, старый, потрепанный, с ветхими уголками, пожелтевший от времени, на обложке никаких опознавательных знаков. Я безропотно прижимаю его к себе, даже не пытаясь объяснить, что эта вещица не моя. У меня просто сил не осталось для объяснений. А кроме того, если к тебе попала какая-то вещь, то это неслучайно. Спускаясь на лифте, я под шуршанье тросов начинаю понимать, что уже никогда не буду прежним, потому что оставляю позади кое-что важное. Не знаю, что творилось со мной в последние дни и почему раз за разом у меня, как говорится, случался облом. Вся штука вот в чем: я по большому счету всегда жил с таким же ощущением, как в эти дни, – у меня, если честно, никогда не было желания покончить с собой.