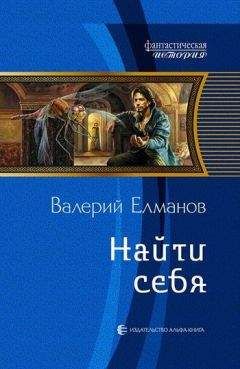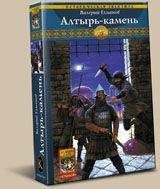Валерий Елманов - Правдивый ложью
А теперь пусть выбирают, куда податься. Или же остаться с этим титулом на службе у царевича, который не просто наместник земель, но еще и престолоблюститель и наследник царя, либо…
Выбрали дружно, не колеблясь, исходя из чего я сделал два непреложных вывода. Во-первых, мое вранье пришлось им по сердцу, а во-вторых, у русского народа в душе куда больше романтизма, нежели у прагматичных европейцев.
Надо будет запомнить – сгодится на будущее, когда больше апеллировать и взывать будет не к чему.
Зомме ненадолго задержался. Оказывается, рано утром его разыскали несколько представителей от алебардщиков-телохранителей, которые дежурили внутри царских палат при Борисе Федоровиче, и попросили спросить у царевича, что им делать дальше и когда приступать к несению своих обязанностей.
– Про жалованье намекали, – глухо произнес Христиер, глядя куда-то в сторону. – Мол, за последние полгода не получали еще. Так как с ними?
Я возмущенно засопел, но быстро взял себя в руки.
Вообще-то с теми, кто с готовностью самоустранился от дальнейшей судьбы семьи Годуновых, то есть самым бессовестным образом нарушил присягу, церемониться не следовало.
«Всех в шею, к чертовой матери», – едва не слетело с моего языка.
В иное, не столь тревожное время я так и распорядился бы гнать их до самой границы, периодически добавляя увесистого пинка для скорости, но сейчас…
– Передай, что они уже выказали свои величайшие способности по охране царственных особ, – и скрипнул от злости зубами, что приходится поступать столь же мягко, – потому допускать их вновь к своим обязанностям князь Мак-Альпин воспретил. Коль они разбежались по норам, пусть теперь в них и сидят… до приезда Дмитрия Иоанновича, каковой теперь новый государь. Вот его пускай и охраняют.
И тут же припомнилось, что вроде бы по истории Дмитрий и впрямь завел себе охрану из иноземцев – то ли роту, то ли побольше. Кстати, не исключено, что это те же самые ребята, которые состояли при Годунове.
Что ж, тогда неудивительно, что мятеж против «сына Ивана Грозного» прошел удачно. Сдается, что, когда начнется очередная буча, они поступят точно так же, как и в эти июньские дни.
И поделом Дмитрию – дураков учат.
– А… жалованье? – смущенно напомнил Христиер.
– А ты сам-то как считаешь? – осведомился я, но тут же пожалел о своем вопросе.
Совсем забыл, что Зомме до прихода в полк, то есть всего год назад, тоже был одним из них, а потому беспристрастно судить не может. Да и они именно потому и пришли к нему, как к старому товарищу, который может походатайствовать.
Однако мой помощник оказался весьма порядочным и твердо заявил:
– На их месте я бы и вовсе про серебро помалкивал – стыдно.
Ах так.
– А им, получается, не стыдно… – протянул я, радуясь, что хоть здесь можно не церемониться. – Что ж, тогда поведай, что их жалованье сохранено до последней полушки и будет целиком и честно выдано в самое ближайшее время. – И, глядя, как вытягивается от удивления лицо Христиера, мстительно пояснил: – Но не им, а тем, кто на самом деле выполнял их обязанности и сумел сохранить жизнь семье Годуновых, то есть полку Стражи Верных.
– С превеликим удовольствием, – почти с радостью заверил он и ушел.
Теперь предстояло заняться отцом Никодимом, которого к тому времени давно доставили, проведя в молельную комнату рядом с опочивальней царевича.
Когда я вошел туда, монах стоял на коленях перед обширным, занимающим весь угол и раскинувшимся на две половины прилегающих к нему стен иконостасом, что-то негромко бубня себе под нос.
На меня он даже не оглянулся, продолжая сосредоточенно отбивать поклоны, и трудился не на шутку – во время каждого был отчетливо слышен глухой стук, с которым его лоб соприкасался с деревянными половицами.
Ратники скучающе стояли у двери. Я кивнул им, указав на выход, а сам решил не отвлекать Никодима, дождавшись, пока он закончит молиться. Пусть надсаживается, пока я соберусь с мыслями – с чего начинать, чем продолжить, как надежнее припугнуть.
Созрело довольно-таки быстро, так что спустя десять минут я прервал его общение с богом – кончилось терпение.
– Притомился, поди, отец Никодим? – вкрадчиво осведомился я. – Присядь пока, разговор есть, а уж потом, коли будет желание, продолжишь.
Тот молча встал, перекрестившись напоследок, после чего прошел к столу и низко склонился передо мной:
– Благодать тебе, мил-человече, что сподобил меня, недостойного, лицезреть сии святые иконы, овеянные древностью и осиянные…
Я слушал молча, не перебивая. Пусть себе говорит что хочет. Однако когда невидимая секундная стрелка пошла на третий круг, а может, и на пятый, я пришел к выводу, что хватит, и поинтересовался как бы между прочим:
– А лицезрение этих святынь помогает тебе избавиться от содомского греха?
Никодим вздрогнул и осекся. Пауза, впрочем, длилась недолго.
– Только правду мне, святой отец, – жестко добавил я. – Иначе…
– Опосля последнего отпущения грехов сей гнусности более не предавался, поелику…
– А когда их тебе отпустили? – осведомился я. – Если вчера – поверю, что «не предавался», но у нас в общем-то разговор о делах давних, даже не этого года.
Вначале он не понял.
Потом понял, но неправильно, принявшись горячо уверять, что уж в чем в чем, а в этом неповинен, ибо все было несколько иначе, и после того у него самого долго болели ребра, а вдобавок он еще лишился пары зубов.
– Ражий детинушка наш государь, потому сокрушил меня и поверг, и опосля я к нему ни-ни, – завершил он свою пламенную речугу.
Пришлось пояснить, что ражим детинушкой был не государь, а истинный Отрепьев. Что же касается Дмитрия, то он выглядит совсем иначе.
После того как я описал его достаточно примечательную внешность – одна бородавка у глаза чего стоит, и монах наконец-то припомнил, он не просто раскис или поплыл – хлопнулся в обморок.
В чувство я его привел довольно-таки быстро. Способов достаточно, и если с человеком не церемониться, а применить самые энергичные… Словом, хватило минуты. А вот поднимать Никодима с пола я не стал, продолжив описание грядущего, величественно возвышаясь над его бородатой рожей – так страшнее.
Думаю, он и без того сразу уразумел, что в этом самом будущем ничего хорошего ему не светит, но я счел необходимым добавить ряд подробностей, согласно которым выходило, что дыба окажется невинным цветочком и станет лишь началом его длительных тяжких мук.
Так, пустячок, не более.
В дальнейшем же его ожидают столь красочные, увлекательные перспективы, глядя на которые черти в аду сдохнут от зависти и срочно заявятся в полном составе на курсы переподготовки и повышения своей дремучей допотопной квалификации.
Ах да, совсем забыл упомянуть, что после окончания стажировки они непременно захотят попрактиковаться, так что обратно в ад вернутся не одни, а с неким грешником, каковой хоть и является монахом, но от этого его грехи становятся только тяжелее, и потому мучить они его станут с превеликим удовольствием.
Подняться с пола он даже не пытался, продолжая лежать и проникновенно стонать. Периодически из него вырывалось нечто нечленораздельное, а иной раз, хотя редко, и осмысленная фраза:
– Да ежели бы я токмо знал!.. Да неужто бы я себе дозволил!.. Да яко же теперь быти мне, окаянному?!
Вот на последней я и остановился. Сразу, как только он ее произнес, я медленно повторил:
– Яко тебе быти теперь, спрашиваешь? – И умолк, задумчиво разглядывая монаха.
Тот затаил дыхание, по всей видимости почуяв, что еще можно что-то как-то изменить, искупить или по крайней мере смягчить.
– Ну, сказывай в подробностях, как оно было, – произнес я нехотя.
– Дак было, – оживился он. – Уж больно сладок показался мне сей отрок, вот и не утерпел, оскоромился…
Слушал я его недолго. Терпение кончилось буквально через пару минут, уж очень откровенно живописал отец Никодим эти самые подробности. Когда стало окончательно невмоготу, я прервал его на полуслове:
– Лучше сделаем иначе. Все, что ты говоришь, напиши. – И посоветовал: – Только начни с покаянного слова. Мол, прости меня, государь Дмитрий Иоаннович, что я по своей глупости и недомыслию, не ведая, что ты есть сын царя-батюшки Иоанна Васильевича, польстился на тебя… ну а потом излагай все как есть и ничего не таи. Дескать, не сам ты это надумал, а бес тебя попутал, внушив тебе греховные мысли и принявшись тебя соблазнять юной плотью. Потом в подробностях, опять же ничего не тая, опиши, чем именно в этой плоти государя соблазнял тебя враг рода человеческого и прочее.
Монах поспешно затряс головой:
– Все, как велишь, исполню. Сказывают, добрый он, можа, и впрямь простит. – И уставился на меня в немом ожидании подтверждения.
– Можа, простит, – неопределенно кивнул я и предупредил: – Писать будешь прямо тут, в молельной, перед святыми иконами. Ратники за дверями, так что бежать и не думай.