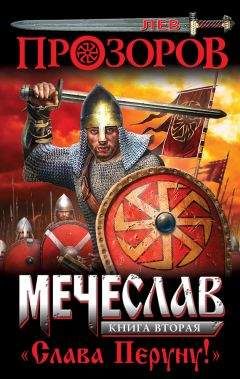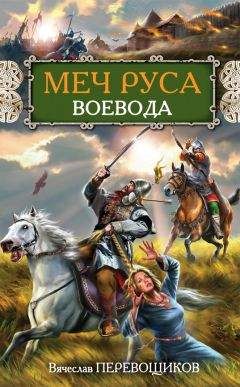Лев Прозоров - Я сам себе дружина!
Порешили – отправить баб да малых по ближним сёлам да вескам. Самим же – ждать посадничьего суда.
Через два дня нагрянул посадник. Наёмники доскакали до близкого городка, оттуда мытарь выпустил голубей – и уже вскорости к взбунтовавшемуся городу подошли две лодки – на каждой по дюжине буртасов, – а берегом шла та самая дюжина настоящих хазарских бойцов, с кагановым пятипалым знаком на железных лбах шлемов. С нею ехал и тудун-посадник – однорукий сотник – то ли булгарин, то ли торк, а если и хазарин, так не из Белых, которому, коли уж не мог служить Итилю саблей, дали в прокорм Казарь и край вятичей. Глядел рысью – да на рысь и походил. Приплюснутый нос, скулы торчмя, узкие зелёные глаза, узкие усы с проблескивающей сединою.
К нему вышли все мужики города. Старейшина стоял чуть впереди, опираясь на посох, чтоб не выдать дрожи в ослабевших коленах.
– Вам надо было жаловаться мне, – на чистой вятической речи сказал тудун, глядя зелёными глазами поверх шапки старейшины. – Знаешь, что теперь?
– Я – старейшина. – Старейшина поднял голову, глядя посаднику в лицо, но тот смотрел мимо, и не было на его рысьей морде ни гнева, ни злобы – одна скука.
– Не так легко, старик. – Покачал головой в островерхом шлеме посадник. И закричал что-то по-буртасски.
Полторы дюжины пеших буртасов принялись выстраивать горожан в неровное подобие ряда. Двое остались у лодок, подозрительно зыркая по сторонам, да и на лес через Оку. Ещё четверо принялись выламывать тычины в тынах, примыкающих к торгу дворов, оставляя через равные промежутки одинокие колья.
Видели б бабы – снова б завыли. Мужики стояли молча. Молчал и кузнец Зычко, накануне свернувший набок скулу младшему брату старейшины за предложение переждать в соседнем селе с бабами – мол, коваль-то хороший, жаль будет, если что…
Он не жалел, но нестерпимо заныл копчик и непроизвольно стискивались ягодицы – словно уже почувствовав прикосновение деревянного острия.
Старейшину уже поволокли к первому колу, но тот вдруг стряхнул руки буртасов и решительно зашагал к посаднику. Наёмники рванулись было хватать за рукава, но посадник отмахнул плёткой, и буртасы просто пошли вслед за старым вятичем.
Лицо у того было не бледным – красным, старческие глаза не по-старому горели злостью, какой горожане давно не видели в Нажире Горяйновиче.
– Лютой смертью помру, – негромко сказал старик, задирая голову к рысьемордому, наконец обратившему к нему взгляд раскосых зелёных глаз. – А знаю, за что – за род свой. А ты-то, блядь купленая, когда срамной смертью подыхать будешь – за что подохнешь? За щеляги[10] обрезанные?
Последние слова уже выкрикнул в руках уволакивавших его к колу буртасов – посадник, недослушав, покривил безгубый рот над скошенным подбородком и сделал знак палачам.
Кричал в спину – тудун, тронув коня, подъехал к ряду мужиков и двинулся вдоль него, размеренно произнося:
– Первый, второй, третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый – десятый! – тудун ткнул плетью, и буртасы, оставившие помирать на колу прогрызшего от боли губу, пустив на седую бороду вишнёвые струи, Нажира, ухватили десятого под локти и поволокли к свободному колу. А посадник продолжал всё так же размеренно:
– Первый, второй, третий…
Считать Зычко умел, и посадник ещё не доехал и полдороги до него, как он затеребил молодого парня-молотобойца:
– Встань сюда! Эй, Незванко! Тебе говорю, ну, очнись!
– Ч-что, дядько Зычко?! – с трудом оторвав огромные побелевшие глаза от умиравших на кольях соплеменников, подмастерье уставился на кузнеца. – З-зачем?
– Да живо ты, ну! – в отчаяньи рыкнул кузнец, когда уже над ними раздалось:
– …Восьмой. – Сухощавый горшеня Векша протяжно всхлипнул от облегчения и зашатался, чуть не упав. – Девятый. – Кнутовище сунулось едва не в лоб кузнецу и упёрлось в подбородок Незвану. – Десятый.
Молодой плечистый парень не закричал, когда его ухватили под локти и потащили палачи-буртасы. Только с какой-то детской растерянностью оглядывался на опустивших головы сородичей.
– Ты обчёлся, хазарин! – закричал Зычко посаднику. – Обчёлся, я десятый, не он!
Тот придержал шаг коня, на полувзмахе замерла рука с плетью.
– Я считал ровно, – спокойно ответил он. – Ты девятый, десятый – он. А если и нет – ты – кузнец.
Посадник скосил рысьи глаза на руки Зычко.
– Много пользы. Он – мало. Такого научишь ещё. Третий, четвёртый. – Вороной конь под посадником двинулся дальше. Зычко рванулся было вслед, но копья безмолвной цепи из дюжины кованых всадников на той стороне торжка наклонились вперёд, а Векша с другим соседом – Неклюдом – повисли на плечах.
Переночевав на подворье мытаря, наутро буртасы в стёганках и закованные в железо звезднолобые всадники покинули несчастный городок. Еле стоявшие на ногах вятичи послали за бабами и девками по деревням, а сами принялись снимать с кольев сородичей. Все были мертвы – перед отъездом посадник лично объехал их, останавливаясь у каждого, и, если слышал стоны или хотя бы примечал бьющуюся жилку, хватал кольчужной рукавицей за плечо, шатал из стороны в сторону – и резко наваливался, привстав в стременах.
Маленькая Бажера запомнила, как голосили вернувшиеся бабы над мёртвыми. Как отталкивала руки отца мать – сестра подмастерья Незвана. Как соседи старались не смотреть друг дружке в глаза. И как мухи ползали по лицу «вуя Незвана» – он подкидывал её выше крытой дёрном и мхом крыши кузни, а она верещала – наполовину со смеху, наполовину от страха.
Спустя ещё седмицу в подворье въехал новый мытарь с новой дюжиной конных наёмников. А осенью прошёл слух, что посадника убила рабыня из мещеры – подстерегла хазарина в отхожем месте, выщипав загодя солому на кровле, чтоб сзади просунуть руку с ножом, да и полоснула по горлу. Так и истёк кровью в дерьмо – своё и своих наёмников.
Что сталось с наёмником-сквернавцем, из-за которого и случилось всё в их городке, Бажера так никогда и не узнала – и у кого было спрашивать – у хазар, что ли?
Через два года родами умерла мать.
А ещё пять лет спустя у нового посадника умер кузнец…
К концу рассказа Бажеры голова Мечеслава напоминала своему же обладателю огромный банный котёл. Внутри было жарко и бурлило.
Это было. Это есть. Сейчас, вот в этот самый день где-нибудь – в Тешилове, в Колтеске, в Серенске, в Любичах, в Голутвине, в Перевитске. Или в совсем уж малых и беззащитных сёлах.
Теперь слова кузнеца «лет пятнадцать никого из ваших не видал» звучали по-другому. Обвиняли. Жгли. «Где вы были, где был ты, когда с нами всё это делали?!»
А он был один.
Он не мог этому помешать.
Ладно, он был не один – был Хотегощ, Ижеславль, городец Лихобора и ещё…
Мало.
Очень мало.
Нестерпимо мало против бескрайнего владычества порчи и скверны. Против чуда-юда из басен. Сруби голову – чиркнет юдо пальцем в пламени золотых колец и драгоценных камней – и отрастёт на месте срубленной башки двое.
Убьёшь мытаря – пришлют нового. Сдохнет посадник – приедет новый тудун. Даже если удастся, сговорившись с прочими родами, сжечь Казарь – был Итиль, была Белая Вежа, были бесчисленные наёмники и данники каганата.
Как сделать, чтобы этого не было?! Зачем жить, если сделать этого нельзя? Только погибнуть – проще всего. Но погибни – и кто встанет, случись опять беда, между нею и Бажерой, Живко, иными беззащитными – ох, как его распирало сейчас от сменявших друг дружку изумления, гнева, восторга и недоумения, когда он слушал рассказ девушки о стрясшемся в её родном городе… То готовые взбунтоваться, то покорные карателям, отчаянно смелые, становившиеся через мгновение трусами – только чтоб вновь вспыхнуть отвагой. Лезущие в бой – и не соображающие перегородить врагу путь к отступлению. Достаточно отважные, чтобы предложить палачу себя вместо сородича – и недостаточно смелые, чтобы броситься на этого палача в открытый бой.
Селяне…
Ну, пусть горожане, но всё равно…
Им не хватало… воина. Хотя бы одного. Кто мог приказывать, а не спорить в разгар боя. Кто мог бы увидеть вовремя, что путь для бегства врагам открыт. Кто научил бы встретить карателей не покорностью, а засадой. Кто смог бы поддерживать огонь отваги, не давая ему то и дело потухать, прячась в угли.
А кого? А что если – его, Мечеслава?
В первый раз в жизни Мечеслав усомнился в правоте Деда – своего Деда и Деда Хотегощи. Может, решение засесть в лесных и болотных городцах всё же было неверным?
Голова трещала и гудела, окутываясь чадом. Бажера о чём-то тревожно спрашивала, он тряс головою – словно вода в уши залилась и никак не желала вытряхиваться. Соскользнул – едва не свалился – с полка́. Стены кренились, ходили ходуном, дышать было тяжко.
Мечеслав выбрался, цепляясь за стены, в предбанник. Забыв надеть штаны, вышел во двор – и чуть не упал, оперевшись на стену. Бажера в одной рубахе выскочила вслед за ним.